Глава III
Русское фортепианно-исполнительское и педагогическое искусство
конца XIX — начала XX века.
Есипова, Сафонов.
Творчество композиторов-пианистов.
Лядов. Глазунов. Метнер. Рахманинов. Скрябин
Одним из важнейших очагов обновления фортепианного искусства наряду со
странами романской культуры была Россия. В Петербургской и Московской
консерваториях еще со времени их основания обучение пианистов находилось
на высоком уровне. Именно в этой сфере музыкальной педагогики наиболее
непосредственно и полно сказалось воздействие искусства братьев Рубинштейнов,
воплотившего ценнейшие эстетические идеи отечественной художественной
культуры периода общественного подъема 1860-х годов. Расцвету русской
пианистической школы способствовали и другие выдающиеся исполнители, преподававшие
в консерваториях и создавшие в своих фортепианных классах подлинно творческую
атмосферу.
В Петербургской консерватории еще при жизни А.
Г. Рубинштейна работали такие мастера пианизма, как С. Ментер, Л.
Брассен, Т. Лешетицкий. Представители различных направлений западноевропейской
фортепианной педагогики, они способствовали ознакомлению русских музыкантов
с ее творческими достижениями. София Ментер, ученица Таузига и Листа,
культивировала традиции своих великих учителей (в основном, правда, блестящей
виртуозной манеры игры, а не глубокого решения проблем интерпретации).
Луи Брассен, окончивший Лейпцигскую консерваторию по классу И. Мошелеса,
представлял академическую традицию немецкой школы. Подобно своему учителю,
он пропагандировал творчество великих композиторов (так, в начале 1880-х
годов Брассен исполнил в Петербурге все фортепианные сонаты Бетховена).
Его учеником был замечательный русский пианист-педагог и деятель в области
музыкального образования — В. И. Сафонов. Ярчайшим педагогическим дарованием
обладал Теодор Лешетицкий. Продолжатель традиций школы К. Черни, а впоследствии
создатель собственного направления в фортепианной педагогике, он приобрел
во второй свой период жизни в Вене мировое признание (3, 211—213). Значительный
след оставило его длительное пребывание в России. Целая плеяда учеников
Лешетицкого разрабатывала педагогические принципы своего учителя в Петербургской
консерватории, в том числе А. Н. Есипова, С. А. Малоземова, К. К. Фан-Арк.
В развитии музыкальной культуры Киева большую роль сыграл ученик Лешетицкого
В. В. Пухальский, воспитавший известных музыкантов— Владимира Горовииа
(учился также у Ф. М. Блуменфельда), Б. Л. Яворского, К. Н. Михайлова
и других.
Анна Николаевна Есипова (1851 —1914) делила с С. Ментер и Т. Карреньо
пальму первенства среди пианисток мира. Концертная деятельность артистки
была очень интенсивной, особенно в 1870—1880-е годы (так, во время гастролей
в США с 14 ноября 1876 по 14 мая 1877 года она дала 105 концертов). Репертуар
ее был громаден и даже трудно поддавался учету, — обладая феноменальной
памятью, она легко пополняла его новыми сочинениями (в течение упомянутого
американского турне 25-летняя пианистка сыграла 37 различных программ;
в заключение она дала концерт из сочинений американских композиторов,
которые выучила за несколько дней).
Искусство Есиповой значительно эволюционировало, отражая происходившие
изменения художественных вкусов в области фортепианного исполнительства.
Наиболее явно это сказалось в репертуаре пианистки. Вначале, как и у большинства
виртуозов 1870— 1880-х годов, он включал много салонных пьес второстепенных
композиторов. В дальнейшем Есипова стала в основном играть лишь сочинения
значительной художественной ценности. Иной становилась направленность
репертуара пианистки и в стилевом отношении. Основой его всегда было творчество
романтиков. Но с течением времени в нем все большее место занимали произведения
Баха„ Моцарта и особенно Бетховена (Есипова — одна из первых пианисток,
начавшая играть ор. 106). Репертуар пополнялся также за счет русской музыки
— сочинений Рубинштейна, Чайковского, Аренского, Лядова, Глазунова и других
авторов. К композиторам следующего поколения Есипова интереса уже не проявляла.
Менялся и характер исполнения пианистки. В юности необузданная, безудержная
в проявлениях своего пылкого темперамента, она вскоре обрела внутреннюю
гармонию чувства и интеллекта. В зрелый период концертной деятельности
Есиповой ее игра органично сочетала в себе поэтичность, женскую душевную
тонкость с мужественной энергией и ясной логикой воплощения композиторского
замысла; живую, подобную непринужденно льющейся человеческой речи, манеру
интонирования со стройным, тщательно обдуманным развертыванием интонационного
процесса; свободу, порой капризность ритма в небольших построениях формы
с общей уравновешенностью музыкально-временных пропорций в крупном плане.
Аналогичным образом и виртуозное начало есиповского пианизма проявлялось
не только в полной свободе исполнения труднейших произведений, в технике,
«доведенной до шалости» (19, 109), но и в величайшей точности игры даже
при очень быстрых темпах.
Последние двадцать лет жизни Есипова посвятила в основном педагогической
деятельности. Став с 1893 года профессором Петербургской консерватории,
она вскоре заняла ведущее место среди педагогов фортепианных классов.
По существу этот период истории пианистического обучения в столичной консерватории
может быть назван есиповскнм. Имя выдающейся артистки влекло к себе молодых
музыкантов со всех концов России. Заниматься к ней приезжали и пианисты,
окончившие Парижскую, Берлинскую, Лейпцигскую, Венскую, Лондонскую консерватории.
Школа Есиповой славилась воспитанием общей музыкальной культуры, артистизма,
тонкого владения искусством пения на инструменте, выработкой мягкого туше
и гибкой нюансировки, динамической и ритмической. Высокого уровня достигало
развитие техники пальцев и кисти, притом с направленностью на решение
определенных художественных задач (требовалось, например, чтобы в «жемчужных»
пассажах пальцы были «стальными», в кантилене — мягкими, распластанными,
давящими на клавиши). Многое в своей педагогике Есипова заимствовала от
Лешетицкого, прежде всего его основополагающий методический принцип —
учить сознательной работе за инструментом, продумывая общий план интерпретации,
все оттенки исполнения, педализацию, аппликатуру, игровые приемы (Есипова
считала нецелесообразным занятия с учениками, у которых, как писала она
в характеристиках, «бельэтаж пустует»). Воспитанная на принципах педагогического
искусства Лешетицкого, Есипова способствовала развитию методики преподавания
своего учителя, отражая вместе с тем новые веяния в музыкальном исполнительстве
и воплощая передовые традиции, сложившиеся в Петербургской консерватории.
Самым существенным в обновлении педагогики Лешетицкого была ориентация
на художественно более полноценный репертуар, а в связи с этим и на относительно
более строгий подход к проблемам интерпретации. «Если Лешетицкий говорил,
что поступающий к нему ученик не удивит его исполнением Шопена или Листа
и сделает лучше, сыграв безупречно во всех отношениях кадриль Вееле, то
Есипова утверждала, что с индивидуальностью пианиста лучше всего познакомиться
по исполнению медленной части сонаты Бетховена и мазурки Шопена» (19,
62). С течением времени в классе Есиповой повышались требования к точности
воссоздания авторского текста, все более классичным становился характер
интерпретации произведений.
Среди учеников Есиповой немало известных пианистов. Крупнейший из них
— С. С. Прокофьев, антипод направлению Есиповой, но немало обязанный ей
— прежде всего развитием своего виртуозного мастерства. Учениками Есиповой
были видные концертирующие пианисты: А. К. Боровский, В. Н. Дроздов, Л.
Д. Крейцер, И. А. Венгерова, М. А. Бихтер (превосходный ансамблист и аккомпаниатор).
На педагогическом поприще традиции есиповской школы развивали в Советском
Союзе О. К. Калантарова, А. М. Бер-лин-Штрпмер, С. О. Давыдова (Ленинград);
А. Д. Вирсаладзе (Тбилиси), Н. Н. Позняковская (Ленинград и Свердловск),
Г. Г. Шароев (Баку) и многие другие. Традиции этой школы получили распространение
и за рубежом. Так, Крейцер преподавал в консерваториях Берлина и Токио,
Венгерова в филадельфийском Кёртис-институте (ее учениками были Л. Бернстайн
и С. Барбер).
В Московской консерватории фортепианные классы также вели крупные музыканты
и известные пианисты. Несколько лет в ней преподавал ученик Н. Рубинштейна
и Ф. Листа Александр Ильич Зилот и (1863—1945). Блестящий виртуоз и художник
с широкими просветительскими устремлениями, пропагандист старинной и современной
музыки, он вошел в историю музыкальной1 культуры прежде всего как организатор
и руководитель нескольких концертных организаций. По классу Зилоти консерваторию
окончил его двоюродный брат — Рахманинов.
Без малого двадцать лет в консерватории работал Павел Августович Пабст
(1854—1897). Представитель венской пианистической традиции, виртуоз «старого
закала с замечательными пальцами» (А. Б. Гольденвейзер), он был вместе
с тем превосходным интерпретатором Шумана и Листа. Среди его учеников
— многие видные впоследствии педагоги Московской консерватории: К. Н.
Игумнов, А. Б. Гольденвейзер (учились также у Зилоти), А. Ф. Гедике, К.
А. Кипп, А. П. Островская. У Пабста учился также по фортепиано композитор
и пианист С. М. Ляпунов.
Расцвет Московской консерватории, коснувшийся и подготовки учащихся фортепианных
классов, во многом связан с деятельностью Василия Ильича Сафонова (1852—1918).
Вспоминая впоследствии о своем учителе, профессор Ленинградской консерватории
Л. В. Николаев писал: «.Сафонов — один из самых одаренных музыкантов,
с которыми мне приходилось встречаться. Одарен он был столь же ярко, сколько
и разносторонне. Он был первоклассным дирижером, отличным пианистом, совершенно
исключительным педагогом и вообще прирожденным всеобъемлющим музыкантом,
чувствовавшим себя в одинаковой мере дома в любой отрасли музыкального
искусства» (101. 109).
По словам Гольденвейзера, Сафонов обладал «несравненным мастерством фортепианного
звука» (5, 267). Большим виртуозом: он, правда, не был. Это суживало его
возможности как пианиста-солиста, и он чаще выступал в качестве ансамблиста.
Зато дирижируя симфоническим оркестром, где его уже ничто не ограничивало,
он проявлял себя как исполнитель крупного масштаба, способный с большим
размахом воплощать монументальные творческие концепции. Доскональное знание
пианистической специфики, а вместе с тем и дирижерское слышание музыки
плодотворно сказывалось на работе Сафонова с учениками-пианистами, способствуя
их всестороннему музыкальному развитию и вырабатывая у них широкий взгляд
на искусство фортепианного исполнения.
В педагогике Сафонова с особой полнотой выявилась обозначившаяся в те
времена тенденция к воспитанию учащихся на высокохудожественном репертуаре.
Придя в Московскую консерваторию и убедившись, что его ученики плохо,
формально играют полифонические произведения, Сафонов засадил их за изучение
двухголосных инвенций Баха. Каждый голос надо было знать на память и играть
выразительно, «как мелодию», одновременно с учеником, исполнявшим другой
голос на втором инструменте. Такой репертуар и такие приемы работы над
ним с молодыми пианистами, мнившими себя уже почти виртуозами, было смелым
новшеством и вызвало в консерватории разноречивые толки. Опыт, однако,
вполне себя оправдал. Учащиеся стали значительно лучше слышать и исполнять
не только полифоническую музыку, но и многоголосную ткань неполифонических
фортепианных сочинений. Аналогичным образом Сафонов вводил в педагогический
репертуар сонаты Моцарта, этюды Черни и другие «легкие» произведения.
На этом материале воспитывалось умение по-настоящему владеть элементами
музыкальной речи и оттачивать исполнение до возможного уровня художественного
совершенства, что благоприятно сказывалось впоследствии при изучении самых
сложных произведений фортепианной литературы.
Прекрасно разбираясь в свойствах личности и дарования учеников, Сафонов
умел к каждому подойти индивидуально и развить лучшее, что в нем было.
«Изумительным было свойство Сафонова стимулировать творческую инициативу
ученика, — вспоминает А. Ф. Гедике. Особенно ему удавалось быстро и незаметно
для ученика производить в нем желательный переворот. В течение года обучения
у Сафонова — после долгих лет занятий у Пабста — я почувствовал в себе
огромную перемену и многое для меня стало простым и понятным и облегчило
мою работу на пианистическом поприще» (101, 107).
Многочисленные высказывания учеников Сафонова свидетельствуют о его глубоком
проникновении в самые сокровенные тайны пианистической моторики. Он органично
сочетал наиболее ценные элементы старой и новой методики, вместе с тем
избегая их односторонности. Для него не было дилемы — играть ли «всей
рукой», или «одними пальцами», использовать ли вес руки или нет. Он исходил
из органичного взаимодействия всех частей игрового аппарата, считал, что
в движениях руки «не должно быть мертвых точек и они должны быть плавными
и закругленными» (101, 98).
В педагогике Сафонова отчетливо обозначалась тенденция к активизации процесса
работы над техникой, ставшая в те времена одной из важнейших проблем методики
фортепианного обучения. В отличие от господствовавшей еще практики технической
муштры при помощи многочисленных упражнений, которые учащиеся играли обычно
чисто механически, Сафонов развивал технику преимущественно на материале
этюдов и путем подсказа различных приемов в процессе изучения художественной
литературы (изобретательность его в этом отношении была неистощимой).
Не отказываясь вовсе от упражнений, он всячески стремился к большей осознанности
и активности в работе над ними. Это привело его к созданию собственных
упражнений, которые испытывались им длительное время на практике и в 1916
году были опубликованы под названием «Новая формула. Мысли для учащих
и учащихся на фортепиано» (108).
Среди многочисленных сборников фортепианных упражнений методический опус
Сафонова — один из самых ценных и действительно новых по своим установкам.
Если до той поры педагоги ограничивались рекомендациями — упражняться
следует внимательно, осознанно, то упражнения «Новой формулы» сконструированы
так, что их «невозможно играть механически, ибо упражнения эти суть не
только упражнения пальцев, но одновременно и упражнения мозга. Это своего
рода телеграф между мозгом и концами пальцев, требующий от играющего полного
сосредоточения» (из предисловия автора). Сказанное в наибольшей мере относится
к первой серии упражнений — на независимость пальцев (под независимостью
Сафонов понимал способность сочетания любого пальца одной руки с любым
пальцем другой). Самой элементарной формулой в этой серии является пятипальцевое
последование, исполняемое с перестановками 1-го пальца в самых различных
комбинациях аппликатур правой и левой руки, например:

Столь несложное, казалось бы, упражнение вызывает на первых
порах затруднение даже у хорошо играющих пианистов и требует действительно
самого сосредоточенного внимания.
Среди ценных рекомендаций, содержащихся в «Новой формуле», хочется отметить
совет разучивать трудные места вначале без инструмента и «только тогда,
когда пассаж совершенно ясно будет запечатлен в памяти посредством чтения,
приступать к игре его на память на клавиатуре» (108, 10). Как видим, Сафонов,
подобно Гофману и Бузони, продолжает разрабатывать проблему «умственной»
техники, намеченную еще пианистами XIX века, в основном Листом. На пути
этих исканий методической мысли «Новая формула» представляет собой одну
из важных вех.
Историческое значение Сафонова как фортепианного педагога велико. На основе
передовых традиций, сложившихся в первых русских консерваториях и в западноевропейской
педагогике (линия — Мошелес — Брассен), он создал свой педагогический
метод, явившийся средоточием прогрессивных идей в области музыкальной
педагогики, подлинно творческого решения важнейших проблем воспитания
и обучения пианиста. Метод Сафонова продолжает сохранять свою действенную
силу вплоть до наших дней. Много ценного можно извлечь и из «Новой формулы».
К сожалению, она крайне недостаточно используется в практике фортепианного
обучения.
Роль Сафонова-педагога оказалась столь значительной еще и потому, что
через его руки прошло множество талантливых учеников, способствовавших
распространению принципов его школы. «Коренными» сафоновскими учениками
были Скрябин и Метнер (учился вначале у Пабста), которые в течение некоторого
времени вели фортепианные классы в Московской консерватории, а также Николаев,
ставший ведущим педагогом-пианистом Ленинградской консерватории. В камерном
классе у Сафонова учились будущие крупнейшие педагоги Московской консерватории
Игумнов и Гольденвейзер (Игумнова Сафонов, кроме того, готовил к Международному
конкурсу им. А. Г. Рубинштейна), причем оба они говорили, что были многим
обязаны Сафонову. Среди учеников Сафонова — известные пианисты и педагоги:
И. А. Левин, Г. Н. Беклемишев, Е. А. Бекман-Щербина, Ю. Д. Исерлис, Ф.
Ф. Кенеман (многие годы был аккомпаниатором Ф. И. Шаляпина), сестры Ел.
Ф. и Евг. Ф. Гнесины. Нити от педагогики Сафонова тянутся и за границу.
Левин и особенно его жена Розина Левина (урожденная Бесси), также ученица
Сафонова, стали видными педагогами Джульярдской школы в Нью-Йорке (ученики
Левиной — В. Клиберн, Д. Поллак, Дж. Браунинг, М. Дихтер). Исерлис долгое
время жил и преподавал в Лондоне.
Благоприятная атмосфера, сложившаяся для подготовки пианистов в музыкальных
учебных заведениях России, способствовала развитию интереса к фортепианному
искусству у молодых композиторов. Они хорошо владели инструментом и в
большинстве своем занимались исполнительской деятельностью, а некоторые
стали всемирно известными артистами. Выдвижение в этот период выдающихся
композиторов-пианистов обеспечило быстрое пополнение русской фортепианной
литературы новыми талантливыми сочинениями, и она все в большей мере становилась
рупором важнейших художественных идей своего времени.
В фортепианном творчестве русских композиторов конца XIX — начала XX века
отразились стилевые закономерности мирового музыкального искусства, своеобразно
преломившиеся благодаря особенностям родной национальной культуры. В России
кризис романтизма наступил позднее, чем на Западе, — незадолго до первой
мировой войны. На протяжении последних десятилетий прошлого столетия еще
происходило интенсивное развитие романтизма в сочетании с освоением и
разработкой реалистических традиций корифеев русской классики XIX века.
Нарастание общественного подъема накануне революции 1905 года, как некогда
в западноевропейских странах в преддверии революций 1830 и 1848 годов,
способствовало усилению интереса к романтической образности, с ее высоким
накалом «пламени чувств» и чаянием наступающего обновления жизни (наиболее
явно это сказалось в творчестве Рахманинова и раннего Скрябина). Одновременно
происходило обновление фортепианного искусства путем возрождения опыта
старинных мастеров, вначале также в русле романтической стилистики (обращение
Глазунова, Танеева, Метнера к творчеству великих полифонистов эпохи барокко).
В русской музыке не наблюдалось столь интенсивного перерастания романтизма
в импрессионизм, как во французской, хотя можно все же отметить интерес
к звукописи, передаче воздушной среды и пространственной перспективы.
Относительно большее развитие, чем импрессионизм, в России получил символизм,
под знаком которого развивалось позднее творчество одного из крупнейших
композиторов — Скрябина.
В 1910-е годы выдвинулось новое стилевое направление, резко противостоящее
символизму и импрессионизму. Представленное в русской фортепианной музыке
тех лет в основном сочинениями Прокофьева, оно получило интенсивное развитие
в период между двумя мировыми войнами (характеристика его, как и творчества
Прокофьева в целом, будет дана в последней главе).
Стилевое обновление русской музыки, происходившее все более быстрыми темпами,
сопровождалось обострявшейся борьбой мнений представителей разных творческих
направлений и разгоравшейся между ними полемикой на страницах печати.
Приметы обновления русской фортепианной литературы начали выявляться уже
в искусстве ближайших наследников творчества кучкистов и Чайковского.
Разрабатывая традиции своих старших современников в России, они осваивали
опыт выдающихся мастеров Запада. В результате возникали разнообразные
художественные синтезы, в большей или меньшей мере — в зависимости от
таланта композитора — индивидуально окрашенные.
Сподвижником и преемником Балакирева по распространению идей Новой русской
школы стал Сергей Михайлович Ляпунов (1859—1924). Прекрасный пианист,
успешно концертировавший и многие годы ведший класс специального фортепиано
в Петербургской консерватории, он способствовал своим творчеством развитию
на русской почве концертно-инструментальных жанров романтической литературы,
пианистического искусства крупного масштаба. Среди его сочинений следует
выделить два концерта, Рапсодию на украинские темы для фортепиано с оркестром
и особенно Двенадцать этюдов трансцендентного исполнения (1897—1905).
Автор задумал их как продолжение в новых национальных условиях цикла Листа
под тем же названием.
Сочинения Ляпунова написаны мастерски, с большим виртуозным размахом.
Порой в них сказывается недостаточно активно-преобразующее отношение к
традициям прошлого. В некоторых этюдах подлинно творческое воплощение
духа большого романтического искусства подменяется использованием, и слишком
уже заметным, тех или иных элементов стилистики Листа. Но такие сочинения,
как этюды «Лезгинка» и «Терек», концерты и Рапсодия, содержат немало достаточно
индивидуализированной и содержательной музыки, чтобы вызвать интерес у
современных слушателей *.
Если Ляпунов, питомец Московской консерватории, стал видным участником
музыкальной жизни Петербурга, то Антон Степанович Аренский (1861 —1906),
окончив по классу Римского-Корсакова Петербургскую консерваторию, переселился
в Москву и способствовал формированию молодого поколения московских композиторов.
Сочинения Аренского были в свое время популярны и постоянно звучали на
концертной эстраде. Они влекли к себе своей мелодичностью, мастерской
формой и изящной пианистической отделкой. В них, правда, немало перепевов
музыки корифеев фортепианной литературы XIX века, особенно Чайковского.
Но Аренский обнаружил и известную самостоятельность в поисках того нового,
что возникало в музыкальном искусстве, прежде всего интонационного обновления
лирики, получившего в дальнейшем более яркое воплощение в произведениях
Рахманинова (примером такой лирики в творчестве композитора может служить
побочная партия из первой части Концерта для фортепиано с оркестром).
В отличие от Ляпунова Аренский писал преимущественно сочинения малой формы
и использовал в большей мере пианистические традиции Шопена, а не Листа.
Помимо сольных фортепианных циклов он создал пять сюит для двух фортепиано.
К лучшим образцам музыки композитора надо отнести оба его произведения
для фортепиано с оркестром — Концерт и Фантазию на темы И. Т. Рябинина,
привлекших внимание крупных пианистов (Концерт Есипова выбрала для своего
последнего публичного выступления в качестве солистки).
Большей самобытностью отмечено творчество двух других учеников Римского-Корсакова
— Лядова и Глазунова. Анатолий Константинович Лядов (1855—1914) — музыкант
тончайшей духовной организации, прекрасный пианист камерного плана — внес
ценный вклад в развитие русской фортепианной миниатюры. Он мастерски разрабатывал
жанры прелюдии, этюда, вальса, мазурки и характерных пьес. Сочинений крупной
формы для фортепиано Лядов почти не писал — это лишь циклы «Бирюльки»,
Вариации на тему М. И. Глинки, Вариации на народную польскую тему и некоторые
другие. Но и в них миниатюризм художественного мышления автора сказался
весьма отчетливо. Лучшие пьесы композитора являют образцы не только высокой
концентрации музыкальных мыслей и ювелирной их шлифовки, но и решения
в рамках сочинения малой формы больших задач, стоявших перед отечественной
художественной культурой, прежде всего проблемы народности искусства.
В связи с этим в творчестве Лядова намечаются две взаимосвязанные тенденции.
Одна — освоение различных пластов крестьянского фольклора; другая — стремление
к возможно более полному слиянию народно-жанрового и индивидуального начала;
при этом жанровый элемент воспринимается не как нечто, находящееся вне
личности художника, а как выражение его собственного внутреннего мира.
В русской фортепианной литературе именно у Лядова впервые появляются пьесы,
в которых крестьянская песенность оказывается высокохудожественным личностным
высказыванием автора, перерастающим в исповедь простого, но наделенного
богатым миром чувствований человека. Примером такой музыки может служить
Прелюдия h-moll op. 11 (1885):
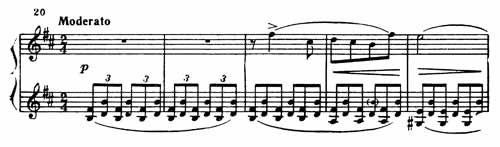
В основу мелодии пьесы автор положил народную песню из сборника Балакирева
«И что на свете прежестоком прежестокая любовь!» Очень удачно написано
сопровождение. Специфически фортепианное, но далеко не традиционное, оно
создает красочно вибрирующий фон, выразительно передающий трепетность
чувств, свойственную музыке народного напева, и искусно воспроизводящий
стилистику крестьянских лирических песен, богатство их внутренней полифонической
жизни. Развитие самостоятельности дополняющих голосов становится особенно
заметным в репризе.
В Прелюдии Dcs-dur op. 10 (1884) Лядов свободно преломляет наигрыш народных
духовых инструментов и на этой основе создает поэтичную картинку русской
природы; жанровый и лирический элементы в ней очень органично сливаются
воедино. Используя приемы шопеновского пианизма, автор сообщает ткани
пьесы особую воздушность.
Прелюдия Des-dur, так же как и миниатюра Бородина «В монастыре», знаменует
поворот в русской фортепианной музыке к пленэрной красочности письма,
интерес к которой можно обнаружить уже в сочинениях Глинки (Баркарола)
и Чайковского («Времена года»).
Лирическая, специфически лядовская трактовка жанровых образов сказалась
в таких известных сочинениях композитора, как баллада «Про старину» (1889)
и «Музыкальная табакерка» (1893). Баллада — удачный опыт создания «эпической
миниатюры», воплощение богатырской, истинно народной по духу сценки в
рамках небольшой фортепианной пьесы. «Вальс-шутка» — один из поэтичнейших
образцов звукописи Лядова.
Кое-где в лядовских пьесах наблюдается сгущение эмоционального колорита
и тогда их воспринимаешь как параллель сочинениям Скрябина (тревожная,
патетико-драматическая Прелюдия fis-moll op. 13, № 4). В творческом наследии
Лядова есть и произведения, которые могли послужить одним из истоков для
творчества Прокофьева. Это прежде всего сочинения, проникнутые интонациями
лирической крестьянской песенности и воспроизводящие поэзию внутреннего
мира простых людей. А такая пьеса, как «Гротеск», ор. 33, № 2 и особенно
«народное сказание для оркестра» «Кикимора» наряду с некоторыми сочинениями
Мусоргского и других русских композиторов подготавливали почву для создания
Прокофьевым образов сарказма.
Александр Константинович Глазунов (1865—1936), вошедший в историю русской
музыки прежде всего как выдающийся мастер симфонической и балетной музыки,
проявил большой интерес и к фортепианному искусству. По воспоминаниям
современников, рояль мог быть для него «истинным выразителем творческих
мыслей» (13, 317).
В отличие от миниатюриста Лядова Глазунов мыслил крупным планом, тяготел
к монументальной, фресковой манере письма. Большим эмоциональным полнокровием
выделяется и мелос его сочинений.
Как уже говорилось, Глазунов был одним из тех композиторов, с именем которого
связано развитие в конце XIX века полифонических приемов письма. Подобно
многим другим представителям русской музыкальной литературы, он интенсивно
разрабатывал инструментальную фактуру типа подголосочной полифонии, что
приводило к созданию произведений особого полимелодического строения (термин
Б. В. Асафьева).
Среди ранних сочинений Глазунова выделяются Три этюда ор. 31. Они привлекают
внимание не только сами по себе как художественно ценные пьесы, но и как
свидетельство растущего интереса в России к разработке пианизма концертного
типа. В последних десятилетиях века композиторы, и притом крупнейшие,
все чаще обращаются к жанру концертного этюда. Из мастеров старшего поколения
этот жанр интенсивно разрабатывал лишь Антон Рубинштейн. Лядов и Глазунов
создали по несколько этюдов, Ляпунов написал уже целую серию Этюдов трансцендентного
исполнения, а в фортепианном творчестве Рахманинова и Скрябина этюдный
жанр стал одним из основных.
Во всех трех сочинениях Глазунова ор. 31 значительное место уделено изложению
мелодической линии или сопровождения двойными нотами, получившими в те
времена большое распространение в творчестве русских и зарубежных композиторов
(вспомним о широком использовании их Брамсом). Примером мелодизированной
токкатности может служить блестящий Этюд C-dur № 1. В ином роде Этюд №
3 «Ночь». Воздушностью своей ткани и тонкой игрой мерцающих красок он
предваряет письмо импрессионистов.
В зрелый период творчества Глазунов создает несколько своих лучших фортепианных
сочинений крупной формы: Прелюдию и фугу d-moll op. 62 (1899). Тему с
вариациями на финскую тему (1900) и две сонаты — b-moll и e-moll (обе
в 1901 году). Подобно многим произведениям русской музыки рубежа веков,
они проникнуты ощущением эмоционального подъема, а порой и чувством душевной
встревоженности, которые, однако, не затемняют общего светлого колорита
музыки. Эта образная сфера воплощена в типично глазуновской манере письма
— лирико-эпической, широкой, пространной.
Каждое из сочинений по-своему примечательно. Прелюдия и фуга — первый
образец в русской фортепианной классике монументального полифонического
цикла. Насыщенность фортепианного изложения, напоминающая фактуру органных
транскрипций произведений эпохи барокко, сочетается в нем с конфликтным
развитием симфонического плана. В основу конфликта положено противоборство
активных действенных сил с силами, сковывающими их энергию. Первые воплощены
стремительными взлетами гаммообразных фигур — в прелюдии — и восходящими
интонациями мажорного трезвучия, мужественными, исполненными горделивого
чувства человеческого достоинства — в первой теме фуги. Носителем сковывающего
начала являются хроматические интонации. Возникая уже в прелюдии, они
развертываются во второй теме фуги в цепь секунд, последовательно нисходящих
по всем двенадцати ступеням хроматической гаммы. В процессе драматургического
развития обе темы сталкиваются в разнообразных конфликтных ситуациях.
Порой начинает казаться, что вторая тема способна окончательно подчинить
себе первую. Но в коде силы стремления прорывают сдерживающие их преграды
и утверждают свое могущество.
Вариации ор. 72, хотя и написаны на очень коротенькую тему— всего семитактную,
не производят впечатления цикла миниатюр. Разрабатывая народный напев,
переосмысливая его и нередко значительно расширяя масштабы темы, автор
создает монолитное произведение, где отдельные вариации образуют блоки
монументальной художественной конструкции. Это сближает сочинение Глазунова
с вариационными циклами Брамса и Регера.
На русской почве оно наметило линию развития жанра вариаций, продолженную
впоследствии Рахманиновым.
Сонаты b-moll и e-moll, как и незадолго перед тем написанные ранние сонаты
Скрябина, принадлежат к типу романтических, лирико-патетических произведений
этого жанра. Ценное качество обеих сонат — их мелодическое богатство.
Особенно хороши лирические темы (побочных партий первых частей, среднего
раздела Andante Первой сонаты и некоторые другие). Широко распевные, они
проникнуты душевным благородством, порой в них ощущаешь словно благоухание
весенней природы. С образами весеннего обновления ассоциируются в первую
очередь финал Первой сонаты и скерцозно-токкатная средняя часть Второй.
Оба сочинения насыщены полифоническими приемами развития. В финале Второй
сонаты даже введена фуга. Столь интенсивная полифонизация сонатного жанра
была впервые осуществлена в русской музыке именно Глазуновым. В дальнейшем
по этому пути пошли Метнер, Мясковский и некоторые другие композиторы.
Глазунов создал также два концерта для фортепиано с оркестром. Более удачен
Первый. Его первая часть, написанная в середине 1900-х годов, проникнута
половодьем чувств, характерным для глазуновских произведений того времени.
В основу ее драматургии положен контраст двух лирических тем — главной
и побочной партии сонатного allegro — элегической, вызывающей представление
о душевной неудовлетворенности, и светлой, исполненной радостных стремлений.
Обострению эмоционального напряжения способствует патетико-драматическая
тема вступления, неоднократно возникающая в процессе музыкального развития.
Необычным для концертного жанра является продолжение цикла, досочиненного
в 1911 году. Вместо традиционных частей, медленной и быстрой, здесь одна
часть — вариации. Девятая, заключительная, вариация служит финалом всего
произведения. В ней мастерски обобщается тематизм предшествующих частей
и разрешается конфликтная ситуация, наметившаяся в сонатном allegro.
Фортепианные сочинения Ляпунова, Аренского, Лядова и Глазунова в настоящее
время исполняются обычно лишь в процессе учебной работы. На большой концертной
эстраде они звучат, к сожалению, редко. Вводя в программы учащихся произведения
этих авторов, педагоги иногда видят в них преимущественно подготовительный
материал для изучения творчества корифеев русской и зарубежной музыки
XIX — начала XX века. Так, Лядов рассматривается в плане подготовки к
исполнению Шопена и Скрябина. Отсюда ведет свое происхождение тенденция
«шопенизиро-вать» и «скрябинизировать» Лядова, чего, конечно, отнюдь не
следует делать. Лядов становится значительно более интересным, когда в
нем ищут не «маленького Шопена» или «юного Скрябина», а художника с самобытной
творческой индивидуальностью.
Дискография сочинений всех этих композиторов сравнительно невелика. Но
в ней есть интересные записи. Превосходно играет Этюд Аренского Fis-dur
ор. 36 Бекман-Щербина *. Б интерпретации этого сочинения сказались лучшие
черты художественной индивидуальности Бекман-Щербины — обаятельная7 непосредственность
лирического высказывания, безыскуственная простота и тонкий вкус. Истинное
наслаждение доставляет филигранное мастерство «жемчужной» игры, подкупающее
своей одухотворенностью и полной свободой — в нем не чувствуется ничего
сделанного, вытверженного, что, к сожалению, свойственно исполнению некоторых
виртуозов.
Интересно ознакомиться с исполнением в записи Вальса Аренского Гарольдом
Бауэром и Осипом Габриловичем (альбом «Выдающиеся пианисты прошлого»),
его же пьесы «Сари» (из «Опытов в забытых ритмах») А. Гольденвейзером
(альбом пластинок этого пианиста) и «Фантазии на темы И. Т. Рябинина»
М. Гринберг.
К Лядову из крупных пианистов чаще других обращался В. Софроницкий. Истинным
шедевром его исполнения была «Музыкальная табакерка». Яркое впечатление
производила уже искуснейшая имитация игры музыкальных шкатулок — автоматичности,
«заведенности» ритма и специфического колорита звучания, металлически-звонкого
и словно окутанного облачком звуковой пыльцы (этот эффект достигался с
помощью обильной педализации). А за магией звуковых красок в затейливом
механизме раскрывалось нечто очень человечное и светлое. Тонким юмором
были овеяны некоторые выразительные детали, особенно небольшие задержки
после арпеджированных аккордов с форшлагом, нарушавшие размеренное, сугубо
автоматизированное движение предшествующих восьмых.
Софроницкий был замечательным интерпретатором произведений Глазунова.
В его исполнении Первая соната звучала романтической поэмой о думах и
чувствованиях человека духовно значительного, мужественного и вместе с
тем наделенного большим сердечным теплом. Эмоциональное наполнение каждого
мига музыки поддерживало активность ее восприятия (это качество исполнения
особенно необходимо при воспроизведении сочинений такого композитора,
как Глазунов, иначе они блекнут, подобно цветам, которых лишили необходимой
им влаги). Глубокое впечатление оставляло интонирование лирических тем.
В них, как и во «внутреннем голосе» Фантазии Шумана, пианисту удавалось
коснуться самых заветных струн души композитора. Это придавало исполнению
особую одухотворенность, в нем было что-то трепетное, волнующее.
Выдающимся интерпретатором Первого концерта Глазунова явился С. Рихтер.
В исполнении сочинения в полной мере сказалась присущая пианисту способность
мыслить крупным планом, создавать монументальные концепции целого, а вместе
с тем рельефно выявлять все характерное в процессе музыкального развития
(в данном случае — прежде всего наиболее приметные особенности, присущие
отдельным вариациям второй части концертного цикла).
Значительную роль в развитии русского фортепианного искусства сыграл Сергей
Иванович Танеев (1856—1915). Авторитетнейший музыкант, «высший судья,
обладавший как таковой мудростью, справедливостью, доступностью, простотой»
(С. Рахманинов), он оказал плодотворное влияние на молодых композиторов,
обучавшихся в его время в Москве, на весь процесс преподавания в консерватории,
а тем самым в известной мере и на судьбы русской музыки. Именно Танеев
как композитор, ученый и педагог способствовал в наибольшей мере усилению
интереса в России к проблеме обновления музыкального искусства путем использования
традиций старых мастеров, в первую очередь полифонистов эпохи барокко.
Указывая своим ученикам и последователям этот путь, он пробуждал их инициативу
и способствовал формированию у них индивидуального композиторского мастерства.
Вот почему принципы танеевской школы оказались эффективными не только
для сочинения произведений в полифонических жанрах, но и для создания
форм неполифонической музыки из лаконичных тем-эмбрионов (в чем проявили
такое мастерство Метнер, Рахманинов, Скрябин).
Фортепианных произведений Танеев написал совсем немного, и среди них одно
выдающееся — Прелюдия и фуга gis-moll (1910). Этот цикл — вершина в развитии
русской фортепианно-полифонической музыки дореволюционного времени. На
основе глубокого знания полифонических стилей всего мирового искусства
автор создает сочинение новое, органично вписывающееся своей образной
сферой в русскую музыку кануна первой мировой войны. Прелюдия и фуга Танеева
— пример динамизации музыкального языка в духе творческих принципов Чайковского
и крупнейших композиторов московской школы начала века. Это становится
особенно явно при сопоставлении полифонических циклов Танеева и Глазунова.
В первом из них уже тематический материал прелюдии выделяется своей лирической
экспрессией. Нисходящие ходы на уменьшенную септиму в остинатной фигурации,
тормозящие развитие интонаций стремления в мелодии, создают ощущение душевной
скованности, вызывают в памяти образы томления Скрябина. Очень различны
и главные темы фуг. Тема Танеева несравненно более динамична. Знаменуя
собой преодоление душевной скованности, она вбирает в себя интонации никнущих
септим, растворяет их в потоке стремительного движения шестнадцатых и
утверждает волевое начало призывным квартовым возгласом:

Соответственно характеру тем по-разному происходит и развитие их на протяжении
цикла. В одном случае оно мерное, широкое, преломляющее закономерности
эпического симфонизма. В другом — напряженное, импульсивное, связанное
с традициями симфонизма лирико-психологического. Интересной особенностью
фуги Танеева является введение в ее репризе кульминационного построения
прелюдии, что способствует укреплению единства цикла. Активизация бурлящего
фигурационного движения к концу сочинения вызывает ассоциации с финалом
бетховенской «Аппассионаты». Сходство усиливается многократным проведением
в последних тактах квартовых призывов-кличей.
Прекрасный пианист, ученик по фортепиано Н. Г. Рубинштейна, Танеев относился
к своей исполнительской деятельности с очень большой ответственностью.
Он тщательно выбирал репертуар, стремился пропагандировать творчество
наиболее ценимых им музыкантов. Ему принадлежит заслуга первого исполнения
почти всех сочинений Чайковского для фортепиано с оркестром (Концерт b-moll
он первый сыграл в Москве) и трио «Памяти великого артиста». Танеев много
играл Бетховена, особенно хорошо Четвертый концерт. В его репертуар входили
также сочинения Баха, Моцарта, западноевропейских романтиков и русских
композиторов.
Связь с традициями Танеева наиболее явно ощутима в искусстве Николая Карловича
Метнера (1879—1951). Вместе с тем Метнер — композитор с собственной, рельефно
очерченной индивидуальностью, проложивший свою линию в русской музыкальной
литературе.
О Метнере немало спорили. Одним из важнейших вопросов, вызывавших разногласия,
было отношение искусства композитора к современности. Высказывались мнения
о том, что оно ретроспективно, что Метнеру следовало родиться несколькими
десятилетиями раньше и тогда его творчество оказалось бы созвучным запросам
жизни. Находились также музыканты, видевшие в Метнере «сурового германца»
и по существу отлучавшие его от русской культуры. Особую активность в
этом смысле проявлял брат композитора — Эмилий Карлович, критик идеалистического
толка, ярый германофил (в печати он выступал под псевдонимом Вольфинг).
Н. Метнер как-то высказал мысль: «Каждый художник должен быть одновременно
и современен и стар как мир» (78, 17). В этом афоризме заключен ответ
на вопрос о сущности его собственного творчества. Сейчас, когда уже отчетливо
определились ведущие направления в развитии музыкальной литературы XX
века, стало ясным, что обращение Метнера к опыту мастеров прошлого находилось
в русле исканий многих композиторов, что, используя ценности искусства
«старого как мир», они решали, каждый по-своему, насущные проблемы художественной
культуры своего времени. В таком плане следует рассматривать и центральную
проблему творчества Метнера — обновление музыки на основе многостороннего
синтеза традиций русского и зарубежного искусства, композиционных приемов
романтиков, венских классиков ir полифонистов эпохи барокко.
В связи с этой проблемой Метнером решались и две важные задачи — обновления
тематизма и жанров музыкального творчеству. Сочинения Метнера богаты замечательными
темами. Достаточно напомнить о лейттеме, пронизывающей цикл «Забытые мотивы»
(она впервые дана во вступлении к «Сонате-воспоминанию»), о теме побочной
партии Сонаты g-moll, о темах сказок b-moll ор. 20, e-moll ор. 34. Темам
этим обычно свойствен русский колорит, в них ощущаешь связь с русским
народным песенно-танцевальным искусством. Композитор преломляет его всегда
по-своему, нередко, как в названных сочинениях, в виде трогательно-безыскусственного
лирического высказывания, иной раз несколько изысканно, сквозь призму
утонченного интеллектуализма. Есть в тематизме Метнера связи и с песенностью
немецких романтиков, с мелосом Шуберта, Шумана, Брамса. Все же русская
интонационная стихия оказалась преобладающей, особенно' в пору наступления
творческой зрелости, и это в значительной мере определяет национальный
облик музыки композитора.
Подобно Танееву, Метнер придавал громадное значение логике музыкального
развития, основу которого он видел в последовательном, тщательно продуманном
развертывании тематизма сочинения. Просматривая черновые рукописи композитора,
нетрудно убедиться в том, как много внимания он уделял отделке музыкальной
формы, стремясь пронизать ее «красной линией тематизма» (это образное
выражение неоднократно встречается в записях Метнера). «Тема, — писал
Метнер в своей книге ,Муза и мода",— есть закон для каждого отдельного
произведения. Каждая вдохновенная тема таит в себе все элементы и смыслы
музыкального языка. Она имеет свой пульс — ритм, свою светотень — гармонию,
свое дыхание — каденции, свою перспективу — форму. Она требует себе часто
в качестве вассалов иные темы. Она сама намечает, вызывает их, а часто
в цветении своем обнаруживает семена их в себе самой.
Тема не есть всегда и только мелодия., ибо, как это доказал Бах в своих
фугах и Бетховен в симфониях, она обладает способностью превратить как
бы в сплошную мелодию самое сложное построение формы. Но тема чаще всего
бывает заключена и легче всего, любовнее всего воспринимается нами в образе
мелодни. Мелодия является как бы излюбленной формой темы» (77, 47—48).
Если темы своих сочинений Метнер создавал на основе традиций народной
песенности и лирики романтиков, Уо в развитии их юн исходил из творческих
принципов мастеров доромантических эпох — барокко и классицизма. Полифоничность
мышления Мет-нера обнаруживает себя в индивидуализации голосов ткани,
нередко путем их сложных полиритмических сочетаний, в использовании имитационного,
иногда фугированного изложения и специфических для полифонии методов преобразования
тематического материала — выращивания целого из одного тематического ядра.
Связи Метнера с классицизмом шли в первую очередь через Бетховена. Метнер
чрезвычайно высоко ценил этого композитора, называл его своим учителем.
Сочинения Бетховена, особенно позднего периода, стали для Метнера отправным
пунктом в творческой работе над любимым жанром — сонатой.
Известны слова Танеева: «Метнер родился с сонатной формой». Действительно,
уже в юности, а затем на протяжении всей своей жизни Метнер тяготел к
сонатному жанру, мыслил категориями сонатных закономерностей формообразования.
Четырнадцать сонат составляют как бы «красную линию» развития его фортепианной
музыки. В сонатной форме он написал и некоторые из своих фортепианных
сказок.
Метнер подхватил тенденцию психологизации сонаты, выявившуюся в творчестве
Бетховена, западноевропейских романтиков, Чайковского. Сонаты композитора
воплотили внутренний мир человека с его диалектикой непрестанного развития
мыслей и чувств. Причем этот мир воспринимается скорее не как непосредственное
ее переживание, а как рассказ о ней. Повествовательное начало вообще очень
характерно для творчества Метнера. Оно проявляет себя в специфике интонаций
тем, в особенностях музыкального развития — последовательной «раскачке»
движения мелодики, гармонии, фактуры и других компонентов художественной
выразительности. Типичным примером такой «раскачки» уже внутри темы может
служить вступление из «Сонаты-воспоминания».
В сонатах Метнера обнаруживаются черты поэмности. Своеобразное преломление
их — насыщение некоторых сочинений характеристическими элементами других
жанров, что приводит к созданию необычных «гибридов»: соната-элегия, соната-сказка,
соната-баллада. Идея таких синтезов получила развитие в творчестве композиторов
XX века.
Сонаты Метнера разнообразны по форме, в них немало всевозможных композиционных
новшеств, обновляющих традиции жанра. Некоторые сочинения представляют
собой цикл. Такова, например, Соната-баллада Fis-dur (1912—1914). Она
состоит из сонатного allegro, интродукции и финала, включающего развитую
фугу. Это одно из наиболее поэтичных созданий композитора, в основу которого
он положил глубоко волновавшую его идею борьбы светлых и темных сил в
душе человека. На протяжении цикла происходит обострение контрастов, эмоциональных
светотеней, достигающее наибольшего напряжения в фуге. Ликующая кода знаменует
победу светлых сил.
Немало сонат написано в одночастной форме: «Соната-элегия» d-moll из Сонатной
триады (1904—1908), Соната g-moll (1910), «Соната-воспоминание» a-moll
(создание цикла «Забытые мотивы» относится к 1918—1920 годам) и другие.
Среди названных сочинений значительностью замысла выделяется Соната g-molL
Она проникнута духом напряженных исканий человеческой души, в процессе
которых происходит активизация творческих сил и мужание характера. Сонате
этой присущи особая целеустремленность и динамика развития, истоком которого
служат начальные интонации возгласов-вопросов темы вступления (пример
22 а). Мастерски разрабатываемые на протяжении всего произведения, они
оказываются семенами, из которых расцветают последующие темы (в том числе
чудесная тема побочной партии, см. пример 22 б):
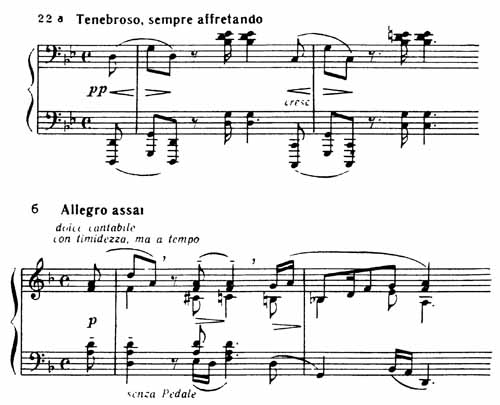
Тонким поэтическим чувством проникнуты «Соната-элегия» и
«Соната-воспоминание». Второе из этих произведений необычно по своей структуре.
Обращает на себя внимание двойное окаймление— экспозиционного раздела
и всей сонаты — темой вступления, что создает особый психологический эффект:
образы прошлого возникают в памяти, словно окутанные лирической дымкой.
Примечательно также введение двойной экспозиции и последовательное обогащение
сонатного allegro новыми лирическими темами. Это обновление сонатной структуры
можно рассматривать как развитие формообразующих принципов, используемых
Моцартом в концертном жанре (но в отличие от Моцарта Метнер вводит новую
тему не только во второй экспозиции, но и JB репризе).
Многие свои сочинения Метнер называл сказками. Это пьесы, напоминающие
небольшие фортепианные поэмы или прелюдии и написанные в более или менее
явно ощутимой повествовательной манере. Образы, воплощенные в сказках,
весьма разнохарактерны. Некоторые из них были названы автором, например:
«Песня Офелии» (ор. 14, № 1), «Шествие рыцарей» (ор. 14, № 2), «Сатра-nella
— песнь или сказка колокола, но не о колоколе» (ор. 20, № 2), «Волшебная
скрипка» (ор. 34, № 1), «Русская сказка» (ор. 42, № 1).
Девятнадцать произведений объединено Метнером в три цикла «Забытых мотивов»
— ор. 38, ор. 39 и ор. 40. В большинстве «своем это песни (канцоны) и
танцы. Многие из них принадлежат к лучшим наиболее известным сочинениям
композитора: Danza festiva («Праздничный танец»), Canzona serenata («Вечерняя
лесня»), Primavera («Весна») и другие. Крупным программным циклом является
также Вторая импровизация (в форме вариаций) ор. 47.
Три фортепианных концерта Метнера продолжают линию его -сонатного творчества.
По существу это не столь симфонические произведения, сколько разросшиеся
ансамбли для многих струнных инструментов с виртуозно разработанной партией
солиста.
Метнер проявил себя большим мастером фортепианного письма. Изложение в
его сочинениях, подчас сложное, требующее высокоразвитой полифонической
техники и изощренного чувства ритма, всегда пианистично. Оно не отличается
значительной красочностью и блеском, но в нем таится немало тонких колористических
эффектов.
Метнер был выдающимся пианистом. Он окончил Московскую консерваторию с
золотой медалью (высоко ценивщий дарование своего ученика Сафонов говорил,
что ему следовало бы присудить бриллиантовую медаль, если бы таковая имелась).
В том же 1900 году молодой музыкант успешно выступил на Международном
конкурсе имени А. Г. Рубинштейна в Вене. На протяжении всей жизни Метнер
давал концерты. Он играл преимущественно собственные сочинения, но также
и других авторов (среди них — Скарлатти, Моцарт, Бетховен, Шопен, Шуман,
Лист, Брамс, Рахманинов).
Исполнению Метнера свойственны мужественность, волевой ритм, большой эмоциональный
накал. Слушая его записи сказок, Сонаты-баллады, Третьего концерта, обращаешь
внимание на мастерскую лепку формы, умение собрать воедино все отдельные
построения и детали, прочертить «красную линию тематизма». При этом очень
рельефно выявляется мелодическое начало. Широкий разлив мелоса наполняет
своей энергией не только ведущий голос, но и всю ткань сочинения.
Авторское исполнение — своего рода полемика с теми, кто видел в творчестве
Метнера черты ретроспективности. Красноречивым примером может служить
интерпретация Сказки e-moll ор. 34:

Ей предпослан эпиграф из Тютчева:
Когда что звали мы своим,
Навек от нас ушло.
Эти строки могут вызвать представление о том, что пьесу следует исполнять
в элегическом плане, пытаясь передать оттенок сожаления о невозвратном
прошлом. Между тем композитор играет ее иначе. Он с самого же начала заметно
динамизирует фигурации, придавая им характер сумрачно-тревожного рокота.
На этом фоне возникает насыщенно звучащая мелодия, интонируемая экспрессивно,
с волевым подчеркиванием декламационных оборотов.
Сочинения Метнера не принадлежат к числу репертуарных. Лишь некоторые
из них, и то не часто, звучат на концертной эстраде. Среди пианистов,
систематически пропагандировавших их, надо назвать ученика Метнера, профессора
Московской консерватории А. В. Шацкеса. Он играл многие произведения учителя.
Исполнение Шацкеса подкупало своей одухотворенностью, тонким владением
фортепианным звуком, мягкостью туше. Некоторые из лирических тем в его
трактовке глубоко врезались в память. Есть превосходные записи отдельных
сочинений композитора, сделанные крупными пианистами — Э. Гилельсом (Соната
g-moll), М. Юдиной (две сонаты ор. 11), Т. Николаевой (Третий концерт).
С интересными циклами метнеровских концертов выступает Ю. Понизовкин.
Метнер внес немалый вклад в русскую музыкальную культуру, воплотив в области
фортепианной музыки идеи Танеева о широкой разработке традиций мирового
искусства и их многостороннем творческом синтезе. На этом пути, как мы
увидим, у него нашлись последователи среди талантливых композиторов, продолживших
его дело уже в предреволюционные годы и затем после Октябрьской революции.
Крупнейшая роль в развитии и обновлении отечественной фортепианной литературы
конца XIX — начала XX века принадлежит Рахманинову и Скрябину.
Сергей Васильевич Рахманинов (1873—1943) вошел в историю мировой музыки
не только как великий русский композитор, но и как один из величайших
пианистов всей ее истории. Этот гений фортепиано обладал даром ярчайшего
творческого высказывания на инструменте. Своей композиторской и исполнительской
деятельностью он внес выдающийся вклад в музыкальную культуру, создав
самобытные художественные произведения и сам «озвучив» их, благодаря чему
они оказывали и оказывают на слушателей особенно сильное воздействие.
Искусство Рахманинова, кровно связанное с традициями русской музыкальной
классики XIX века, продолжило и обогатило их в условиях нового исторического
периода, в пору нарастания демократического подъема 1890—1900-х годов.
Уже в ранних сочинениях композитора чувствуются веяния общественного пробуждения.
Творческое воображение музыканта влекут образы сильной личности, исполненной
благородных гуманистических стремлений и воли к борьбе за их осуществление.
Аналогичные влечения испытывали тогда и некоторые другие деятели русской
художественной культуры, не разделявшие толстовской идеи «непротивленчества».
Среди них надо в первую очередь назвать молодого Горького, страстно искавшего
в окружавшей жизни нового героя.
Образ сильной личности формируется в ранних сочинениях. Рахманинова —
в опере «Алеко», в Первом фортепианном концерте, в Прелюдии cis-moll из
«Пьес-фантазий». Он проходит через все творчество композитора, возникая
иногда в виде музыкального портрета или монологического высказывания,
большею же частью присутствуя как бы незримо и обнаруживая лишь те или
иные свои грани. Образ этот автобиографичен. В нем ясно ощутима личность
самого Рахманинова, человека со сложной психикой, испытывавшего порой
состояние депрессии и неверия в себя, но в основе своей необычайно волевого,
мужественного, исполненного душевного благородства и при всей своей внешней
замкнутости, наделенного большим отзывчивым сердцем.
Творчество Рахманинова не эволюционировало так стремительно, как искусство
некоторых других музыкантов того времени. Но оно изменялось, и весьма
существенно. В нем обнаруживалась все большая полнота жизневосприятия
и многогранное преломление явлений действительности.
Рахманинов любил народную песню, считал ее той почвой, на которой должно
развиваться композиторское творчество. В своих сочинениях он использовал
многие интонационные, ладогармонические и полифонические элементы русского
фольклора. Примечательно обращение Рахманинова к древнерусской песенности
(«Всенощная», Третий концерт, особенно главная тема первой части, некоторые
Этюды-картины). Этой своей творческой работой он, подобно Бартоку и Фалье,
способствовал расширению народно песенных истоков, питавших европейскую
музыку, что сыграло немаловажную роль в процессе ее обновления.
Рахманинов создал высокохудожественные образы народа. В них привлекает
не только мастерское использование фольклора, но и свойственная им яркость
эмоционального колорита, их особая экспрессивность, воплотившая в себе
свежие веяния эпохи общественного пробуждения. Широко известен Этюд-картина
Es-dur ор. 33, отразивший впечатления от праздничных народных гуляний.
Духом старой, «раскольнической» Руси веет от эпически сурового Этюда-картины
c-moll ор. 39, № 7. Другое сочинение того же опуса, заключающее цикл (D-dur),
напротив, как бы устремлено в будущее. Призывные звуки колоколов, организованные
чеканным, маршевым ритмом, вызывают ощущение душевного подъема и волевой
собранности. В этом Этюде, едва ли не в большей мере, чем в каком-либо
другом произведении композитора, слышатся отголоски общественных настроений
кануна Октябрьской революции.
Творческая потребность в отражении мира реальной действительности проявилась
у Рахманинова не только в передаче эмоциональной атмосферы времени и образов
народа. Глубоко любивший русскую природу, он стал одним из вдохновенных
ее певцов. Рахманинов не проявлял большого интереса к звукописи, хотя
его сочинениям изобразительный элемент не чужд: в них выразительно передано
ощущение воздушной среды, широких земных просторов, различных оттенков
освещения. Все же в основе своей это — пейзажи-настроения, призванные
запечатлеть прежде всего эмоциональное переживание виденного.
Творчество Рахманинова богато лирическими образами, проникнутыми глубоким
поэтическим чувством природы (Прелюдии D-dur и Es-dur op. 23, романсы
«Островок», «Сирень» и многое другое). Некоторые из его сочинений воспроизводят
впечатления от могучих бушующих сил природы (Четвертый музыкальный момент
e-moll). На протяжении 1890-х и в начале 1900-х годов композитор проявлял
творческий интерес к образам весны. Помимо романсов «Апрель», «Весенние
воды» и кантаты «Весна», к этой линии творчества можно отнести и Прелюдию
B-dur ор. 23, примечательную героизацией темы расцвета светлых сил жизни.
Со второй половины 1900-х годов в связи с общим омрачением рахманиновского
творчества в условиях тяжелой общественной реакции образы весеннего обновления
застилаются наплывами новых творческих замыслов. Возникают музыкальные
пейзажи, проникнутые чувством грусти, тоски: Этюд-картина g-moll ор. 33
в характере элегии-баркаролы, с явно ощутимым трагедийным подтекстом;
Этюд-картина a-moll op. 39, № 2— своего рода параллель образу покоя в
симфонической поэме «Остров мертвых»; Этюд-картина es-moll ор. 33 — образ,
вызывающий в душе человека мрачные, гнетущие переживания.
Для Рахманинова, композитора, тяготевшего к монументальным художественным
замыслам, и пианиста безграничных виртуозных возможностей, идеальной формой
творческих высказываний стал жанр фортепианного концерта. Четыре концерта
и «Рапсодия на тему Паганини», фактически — пятый концерт, составляют
ведущую линию в художественном наследии музыканта. Эти сочинения были
своего рода фокусными, вобравшими типические черты искусства Рахманинова
на разных этапах его развития, а вместе с тем отразившими узловые моменты
в становлении творческой личности их автора.
Индивидуальность Рахманинова отчетливо выявилась уже в Первом фортепианном
концерте fis-moll op. 1 (1891). Многозначительна антитеза, данная автором
во вступлении к первой части и воспринимаемая как эпиграф ко всему сочинению:
начальная фанфара оркестра, близкая по характеру зловещим темам фатума,
и, словно вызов ему смелой души человека-борца, могучий шквал октав-аккордов
в партии солиста, утверждающего мощь своей личности. В дальнейшем возникают
основные темы произведения, характеризующие облик сильной личности — героя
музыкального повествования. Сперва это главная тема, скорбная и в то же
время мужественная, таящая в себе богатые импульсы для широкого полноводного
развития, которое в полной мере осуществляется в заключительной каденции
— патетическом монологе солиста. Об этой теме, как и о многих других,
родственных ей, можно было бы сказать крылатыми словами Горького: «Человек
— это великолепно! Это звучит. гордо». Последующие лирические темы дополняют
характеристику главного образа новыми чертами, символизируя стремления
человека к свету, счастью.
Этот концерт был неравноценным в своих трех частях — вторая и третья уступали
по своим художественным достоинствам первой. В 1917 году автор переработал
сочинение, кое-что написав в нем заново, развив партии солиста и оркестра.
Концерт стал более целостным, симфонически насыщенным и виртуозным. Но
в нем ощу-тимо известное несоответствие между мелосом ранней поры творчества
и другими элементами музыкального языка, заметно усложнившимися и отражающими
иную фазу художественного развития композитора.
Второй фортепианный концерт c-moll (1901)—этапное произведение, ознаменовавшее
высокий расцвет искусства Рахманинова. Гениальная тема главной партии
первой части — ярчайший образец творческого высказывания сильной личности
(личностный элемент подчеркнут и необычным для данного жанра сольным,
художественно очень значительным вступлением фортепиано). Тема эта одновременно
создает представление о могучей народной силе, которая всколыхнулась призывными
звуками вещего колокола, осененного традициями героического прошлого и
зовущего к новым великим свершениям. Последовательное становление образа
от экспозиции через разработку к репризе ознаменовано все большим его
мужанием, кристаллизацией в нем черт героики. Дальнейшая активизация героического
начала происходит в финале, где развитие постепенно приобретает черты
драматически напряженного массового действия, порой доходящего до конфликтных
столкновений враждующих сил (в исключительно динамичном исполнении автора
они вызывают впечатление настоящих батальных сцен).
Ярко индивидуальный и наряду с этим широкий, общезначимый характер присущ
лирическим темам концерта. Относительно Солее личным представляется лирическое
высказывание в побочной партии первой части. В Теме Adagio sostenuto эмоциональный
мир человека насыщается поэзией природы, неоглядных просторов родной земли.
В коде финала лирический образ приобретает еще более общезначимый смысл,
вырастая в заключительной теме-гимне во всенародное славление светлых
сил жизни. Так возникает целостная художественная концепция мировосприятия,
значительно более полнокровно и глубоко отражающая реальную действительность,
чем в Первом концерте.
Творческие тенденции, типичные для рахманиновского искусства в период
между двух революций, ярко представлены в Третьем фортепианном концерте
d-moll (1909). Если Второй концерт — кульминация весеннего расцвета искусства
композитора, то это произведение — плод деятельности художника, вступившего
в период своей полной зрелости и обретшего значительно более широкий взгляд
на мир. В рамках трехчастного концертного цикла воплощена целая фортепианно-оркестровая
симфония. Ее воспринимаешь как грандиозную эпопею о судьбах русского народа,
родной страны. Образный строй сочинения разнохарактерен и вместе с тем
мастерски спаян единой художественной концепцией. От лирических раздумий,
то сумрачных, то расцветающих мечтой о счастье, автор ведет свое музыкальное
повествование к остроконфликтным трагедийным ситуациям, к столкновениям
могучих противоборствующих сил, в процессе которых выковывается волевое
жизнеутверждающее начало, заявляющее о своей победе в коде финала великолепной
гимнической темой. Подобно «Поэме экстаза» и «Прометею» Скрябина, это
было в тяжелые годы реакции ^лучом света в темном царстве», свидетельством
неумиравшей в русском искусстве идеи торжества сил света и разума.
Творческие искания Рахманинова последующего времени запечатлены в Четвертом
концерте и «Рапсодии на тему Паганини». Четвертый концерт c-moll, начатый,
по-видимому, еще в 1914 году и завершенный в 1927, — произведение переходное.
В нем немало вдохновенно написанных страниц, но он неоднороден по стилистике
и ему недостает столь же цельной и новой драматургической концепции как
предыдущим сочинениям этого жанра. Подлинно новым и уже заключительным
этапом в развитии Рахманиновым концертно-симфонической музыки стала «Рапсодия
на тему Паганини» (1934). По сравнению с Третьим и Четвертым концертами
в ней значительно рельефнее выявлен трагедийный конфликт. Он раскрывается
в столкновении двух образных сфер — жизни и смерти. Первая запечатлена
в теме гениального скрипача, интенсивна разрабатываемой на протяжении
всего произведения и составляющей основу его вариационного развития. Музыкальное
воплощение второй сферы — тема Dies irae, неоднократно использованная
композитором в его поздних сочинениях. Введение этой темы вносит в вариационный
цикл черты свободно трактованной сонатности.
В «Рапсодии» вновь в полный голос заявляет о себе герой рахманиновского
искусства. Этот новый музыкальный «автопортрет» рисует стареющего художника,
воспринимающего жизнь уже не с прежним полнокровием, несколько аскетично.
Пора весенних упований и безотчетных юношеских радостей для него давно
миновала, продолжая напоминать о себе лишь иногда, в дорогих сердцу воспоминаниях
(серединный раздел сочинения со светлой кульминацией— XVIII вариация).
Но энергия духа в нем не иссякает. Она становится концентрированным выражением
творческой волну необоримой в своих стремлениях, вовлекающей в свой безудержный
полет даже саму смерть (кратковременное появление «под занавес» темы Dies
irae, преображенной, не противопоставляемой теперь главной теме, а сливающейся
с ней в безудержно несущемся-потоке ее вариационного развития) }:.
Концерты Рахманинова принадлежат к наиболее значительным-образцам этого
жанра. Продолжая традиции романтического концерта, композитор, как мы
видели, существенно обновил их образный строй. Отражение во Втором и Третьем
концертах в столь яркой художественной форме передовых общественных явлении,
связанных с русским освободительным движением, имело принципиально важное
значение не только для отечественной, но и для всей мировой концертной
литературы. Рахманинов способствовал обновлению концертного жанра и созданию
особой его разновидности, для которой характерно преобладание монологического
начала (54, 51). Черты монологичности, наметившиеся уже в Первом концерте,
наиболее отчетливо обнаруживаются во Втором и в Третьем. Используя в них
разные формы сочетания сольной и оркестровых партий, композитор с самого
же начала подчеркивает ведущую роль солиста, поручая ему исполнение либо
вступительной темы (во Втором концерте), либо главной (в Третьем концерте).
Благодаря этому слушатель сразу же концентрирует свое внимание на личности
героя музыкального повествования, его внутреннем мире, и через этот внутренний
мир начинает воспринимать образы внешнего мира, запечатленные в произведении.
Многочисленные фортепианные пьесы Рахманинова составляют как бы окружение
концертов, близкое им по своим образам. Обращаясь в юности к самым различным
жанрам — элегии, серенаде, баркароле, юмореске, вальсу, мазурке и другим,
композитор в дальнейшем сконцентрировал свое внимание только на двух —
прелюдии и этюде-картине. В этом сказалась общая тенденция времени— стремление
к более свободному, обобщенному творческому высказыванию. Но это не привело
Рахманинова к отказу от использования некоторых выразительных элементов,
характерных для других жанров, вследствие чего прелюдии и этюды-картины
приобрели свойства сочинений синтетических в жанровом отношении. Никак
нельзя сказать и того, что ограничение двумя жанрами привело к сужению
образной сферы фортепианных пьес композитора. Напротив того — в последних
сериях пьес она шире, чем в ранних.
Рахманинов не делал резких различий между двумя облюбованными им жанрами
фортепианных пьес. Отказавшись в своих последних сериях ор. 33 и ор. 39
от названия прелюдии и заменив их новым — этюдом-картиной, он, очевидно,
хотел подчеркнуть, что стремился к созданию виртуозных произведений, но
не инструктивного плана, а художественного, и, быть может, даже с образностью
определенного типа — картинной. Тенденции этого рода наметились уже в
предшествующих этюдам прелюдиях ор. 23 и ор. 32. Некоторые из них можно
было бы с таким же правом назвать этюдами-картинами, как пьесы ор. 33
и 39.
Во многих пьесах проявилось стремление автора к динамизации сочинений
малой формы. Уже в юности композитор заметно обновляет некоторые традиционные
жанры фортепианной миниатюры, насыщая их ораторским пафосом, мужественной
экспрессией, волевой ритмикой (особенно характерны в этом смысле Элегия,
Юмореска, Баркарола). Среди прелюдий и этюдов-картин немало произведений
с масштабным замыслом, написанных в широкой концертной манере. Некоторые
из них, такие, как Прелюдия cis-moll или Этюд-картина a-moll ор. 39, №
6, несмотря на их небольшие размеры, могут быть названы фортепианными
поэмами.
Помимо пяти концертных сочинений для фортепиано с оркестром и многих пьес
Рахманинов создал две сюиты для двух фортепиано, две сонаты, два вариационных
цикла. Обе сюиты — первые столь значительные образцы этого жанра в России
— приобрели широкое распространение в исполнительской практике. Сонаты
занимают в творческом наследии композитора относительно скромное место.
В Первой сонате сказался недостаток, свойственный и некоторым пьесам Рахманинова:
неадекватность масштабного замысла (в данном случае — воплощение образов
«Фауста» Гёте) его реализации, подмена подлинной глубины мысли ораторской
риторикой. Вторая соната интереснее по тематизму и более цельна по форме.
Характером своей музыки она несколько напоминает сонаты Глазунова, но
манера творческого высказывания в ней типично рахманиновская — более темпераментная
и страстная. Из двух вариационных опусов значительно удачнее оказался
второй — «Вариации на тему Корелли». Написанный незадолго до «Рапсодии
на тему Паганини», он общими своими контурами намечает последующий симфонический
цикл, хотя и без столь сильного заострения драматургического конфликта.
Новая образность музыки Рахманинова потребовала для своего воплощения
специфические средства выразительности, своеобразного их синтеза. Рахманинову
удалось особенно удачно сочетать композиционные приемы, разработанные
представителями ли-рико-психологического и жанрово-эпического направлений
русской музыки, интонационную экспрессию мелоса с монухментальной широтой
его развертывания, ритмику внезапных волевых импульсов, и постепенных
накоплений энергетического потенциала путем плавной «колокольной» раскачке
движения. На этой основе сформировался особый тип динамизма, присущий
искусству Рахманинова —
композитора и исполнителя. Энергетические ресурсы этого динамизма в музыке
Рахманинова обусловлены специфическими свойствами ее тематического развития,
осуществляемого как конфликт сил стремления и торможения, который нередко
приводит к последовательному расшатыванию тормозящих интонационных устоев
и прорывов их в кульминациях. Этот основополагающий для рахманиновского
искусства энергетический принцип уже использовался в музыкальной литературе.
Он отражает опосредованно диалектические закономерности конфликтного развития
в природе, человеческом обществе, произведениях искусства. Первый, кто
начал его интенсивно разрабатывать, был Бетховен. Не случайно, конечно,
этот тип музыкального развития возникает в первую очередь при воплощении
конфликтной тематики и в те исторические периоды, когда она вызывала к
себе повышенное общественное внимание. Каждый крупный композитор искал
свои пути решения проблемы. Рахманинов, глубоко русский по своему складу
музыкант, нашел их, обратившись к традициям родного национального искусства.
Во многих произведениях он дал интересные, высокохудожественные образцы
сочетания приемов конфликтного развития с эпической «колокольной» раскачкой
и характерным для русской песенности опеванием интонационных устоев.
Очень показательна в этом отношении Прелюдия eis-moll. В основе ее тематизма
два мотива. Один, начальный,— императивный, «колокольный» призыв. Другой
мотив — словно отклик на призывный звук колокола человеческой души, ее
робких интонаций, стремлений, гаснущих в интонациях стона, вздоха (cis
2, е2, dis 2У d2, his1).
Строго согласованное развитие обоих мотивов приводит одновременно к активизации
обшей колокольной раскачки движения и интонаций стремления: происходит
взаимодействие крупнопланового макроритма и микроритма отдельных мотивов.
При этом" нисходящий колокольный мотив, вызвав к жизни интонации
стремления, в дальнейшем все более явно выполняет роль тормозящего начала,
способствуя накоплению ритмической энергии и ее внезапному прорыву с наступлением
среднего раздела пьесы (Agitato).
Именно так трактует свой замысел автор, исполняя Прелюдию. К сожалению,
некоторые пианисты, особенно учащиеся, не понимают того, что понижение
шкалы громкостных оттенков в нотах отнюдь не всегда требует ослабления
энергии ритма. И что несовпадение линий «внешнего» и «внутреннего» динамического
развития, как в данном случае, более соответствует характеру музыки.
В среднем разделе активизирующиеся интонации стремления «размывают» октавные
ходы басов, тормозившие поступательное движение. Мощное нагнетание энергии,
созданное неудержимо несущимся звуковым потоком, тормозится внезапно выросшим
на его пути могучим мотивом-зовом. Эта преграда как бы аккумулирует накопленную
в среднем разделе ритмическую энергию перед репризой, где завязывается
поистине титаническая борьба между динамизированными интонациями стремления
и торможения. Вновь, но уже на более высоком уровне энергетического напряжения,
возникает взаимодействие эпически-размеренного колокольного макроритма
и активных наступательных импульсов микроритма отдельных интонаций.
Основополагающий энергетический принцип развития является тем важнейшим
механизмом, при помощи которого Рахманинов осуществляет «бесконечное»
развертывание своих мелодий. Так, во Втором концерте, в теме главной партии
первой части накоплению мелодического напряжения способствует повторное
звучание секундовой интонации, постепенно расшатывающей опорный' тонический
звук до. Прорвав этот тормозящий устой, мелодическая энергия как бы по
инерции устремляется сперва к нижележащим звукам, затем завоевывает близлежащее
звуковое пространство по главному, восходящему направлению своего движения
и, наконец, после краткого отлива вновь возвращается к тоническому звуку.
Возникает новое, более мощное его «расшатывание», которое приводит к рывку
мелодии на интервал малой сексты вверх. В дальнейшем для динамизации развития
используется прием секвенцирования. Сочетание в различных вариантах основополагающего-энергетического
принципа с секвенцированием встречается во многих произведениях Рахманинова.
Прием «колокольной» раскачки с последующим прорывом интонационного устоя
придает самобытность и наиболее утонченным темам лирических сочинений
композитора, таким, как романс «Сирень»:
Изучая произведения Рахманинова, нетрудно убедиться в том, как разнообразно
и творчески он использовал свой излюбленный принцип динамизации развития.
Действие этого принципа распространяется не только на мелодику, но и на
другие элементы музыкального языка. Часто конфликт возникает между отдельными
голосами ткани. Один из таких примеров в Прелюдии cis-moll уже приводился.
Значительно более сложная картина наблюдается во Втором музыкальном моменте
es-moll, где с самого же начала завязывается напряженная борьба между
интонациями стремления и торможения, возникающими одновременно в разных
голосах фигурационно-полифонизированной ткани:

Проявление конфликта сил стремления и торможения можно обнаружить
и в драматургии некоторых рахманиновских сочинений, например «Рапсодии
на тему Паганини». Интересно проследить по нотам, слушая авторское исполнение,
как в вариации VII появление темы Dies irae приостанавливает развитие
темы Паганини, вызывая словно бы распад ее на составные элементы; как
в последующих вариациях возникает ответная реакция этой темы, она мужает,
и ее наступательный порыв усиливается; как в среднем разделе, в фазе «весеннего
преображения» темы Паганини, она обретает новые силы, являя собой одновременно
и тормозящее созерцательное начало по отношению к живущему в ней началу
деятельному, и так далее вплоть до конца произведения.
Наряду с обострением конфликта между силами стремления и торможения Рахманинов
использовал для динамизации музыкального развития также акцентность и
равноритмическую пульсацию. Рахманинов был великим мастером акцента, применявшим
его исключительно разнообразно. Он не только обобщил в этой сфере выразительности
опыт романтического искусства, но и предварил новаторскую практику композиторов
нового поколения, притом таких различных по своим метроритмическим новациям,
как Прокофьев и Стравинский. Рахманинова следовало бы также назвать в
ряду первых, кто после периода увлечения tempo rubato и господства неравномерной
ритмики начал широко вводить в свои сочинения ритмическую пульсацию, но
в пределах романтической стилистики (при этом он отнюдь не отказывался
и от ритмики гибкой, неравноритмичной, от tempo rubato). В использовании
ритмической пульсации у Рахманинова была особенность, отличавшая его от
композиторов неоклассицистского направления XX века: обычно он вводил
ее в одновременном сочетании с непринужденно льющейся мелодией кантиленно-декламационного
типа (Баркарола, Прелюдия gis-moll, главная тема первой части Третьего
концерта). Это не сковывало свободы творческого высказывания, а вместе
с тем дисциплинировало и активизировало развитие музыкальной мысли.
Гениальная пианистическая одаренность Рахманинова сказалась в фортепианном стиле его сочинений. Играть их — подлинное пиршество
для исполнителя, любящего свой инструмент, стремящегося познать сокровенные
тайны его художественной выразительности. Зрелый стиль Рахманинова — это
наиболее полное и универсальное обобщение завоеваний великой эпохи истории
фортепиано— романтизма. В индивидуально неповторимом творческом синтезе
сочетаются воедино фресково-оркестральная манера письма и martellato Листа,
«мелодическая» виртуозность и обертоновая, специфически фортепианная красочность
сочинений Шопена, распевность мелоса и эпический размах музыки русских
авторов.
В ранних сочинениях фортепианное письмо Рахманинова отличается исключительным
полнозвучием. В дальнейшем в таких произведениях, как Третий концерт и
некоторые этюды-картины, оно-становится еще более насыщенным. Композитор
использует грандиозные аккордовые массивы и многоэлементную, иногда четырех-пятиголосную
фактуру. В сочинениях позднего периода наблюдается тенденция к лаконизму
изложения, получившая наибольшее развитие в 1920—1930-е годы (характерным
примером могут служить крайние разделы «Рапсодии на тему Паганини»). В
этом отношении рахманиновское творчество не осталось в стороне от общестилевых
изменений, проявившихся в мировой музыкальной литературе, от воздействия
эстетических идей нового классического искусства. Влияние их на Рахманинова
было все же относительно незначительным. Столь резкого стилевого перелома,
как в музыке Стравинского, Бартока или Фальи, в его сочинениях не произошло.
В предыдущей главе шла речь о том, что некоторые композитеры явно выраженного
национального склада обновляли фортепианную литературу специфическими
звучностями народных инструментов своей страны. Нечто подобное имело место
и в творчестве Рахманинова в отношении ассимиляции искусства колокольного
звона. Колокола, правда, нельзя назвать инструментом ни специфически русским,
ни тем более народным в собственном смысле слова. Однако Рахманинов интерпретирует
колокольный звон в.духе национальной и подлинно народной традиции, каким
его слышали творцы русской песни, классики отечественной поэзии и музыки.
Воссоздание композитором стихии колокольных звонов идет по двум линиям.
Одна из них — передача непосредственных впечатлений от звонной среды,
в которой испокон веков протекала на Руси жизнь человека: звучание колокольчиков,
бубенчиков, приковывавших к себе слух во время праздничных увеселений
и длительного пути на тройке, и, конечно, в первую очередь церковные звоны,
необычайно разнообразные и постоянно изменчивые. Другая линия — преломление
специфики колокольных звонов в глубоко опосредованной форме, как воплощение
богатырской народной силы, широты души русского человека, неоглядных просторов
родной страны. В значительной мере именно стихия колокольности стала для
Рахманинова музыкальным выражением эпического начала. Поэтому и присущая
его искусству мерность развертывания музыкальных мыслей, постепенность
раскачки мелодики, ритма воспринимаются как проявление свойств колокольного
искусства. Наш слух невольно воспринимает соответственным образом и характер
звучания рахманиновской музыки. Благородный металл колоколов хочется услышать
при исполнении кантилены в Прелюдии D-dur (по воспоминаниям Гольденвейзера,
так именно ее и играл автор). Красочные переливы колокольчиков слышатся
в фигурации Прелюдии gis-moll и Этюда-картины C-dur ор. 33, хотя сам по
себе этот тип изложения не является обязательным атрибутом колокольных
звонов. Но такое восприятие музыки Рахманинова, думается, закономерно
и оправдано, ибо стихия кококольности, как ни у какого другого композитора,
стала ее плотью и кровью.
Творчество Рахманинова принадлежит к тем явлениям искусства, новизна которых
раскрылась далеко не сразу. Прошло немало времени, пока было осознано,
что Рахманинову принадлежит заслуга яркого воплощения эмоциональной атмосферы
нового времени — периода общественного пробуждения широких народных масс,
что с его творчеством в музыкальную литературу тех лет входит новый герой,
наделенный богатым духовным миром, тонко чувствующий и вместе с тем сильный
духом, мужественный, готовый отстаивать в борьбе передовые жизненные идеалы.
Осознание всего этого помогло лучше оценить и новизну художественно-выразительных
средств музыки Рахманинова, прежде всего их динамизм, те богатейшие потенции
к активизации тематического развития, которые в них таятся.
Сочинения Рахманинова получили распространение во всем мире, их исполняют
многие пианисты, в том числе крупнейшие мастера современности. Все же
никто не играл Рахманинова лучше самого Рахманинова. Ничьи трактовки не
вызывают такого интереса, не раскрывают в такой мере путь к творческому
прочтению нотного текста произведений, как авторские. В свете этих трактовок,
запечатленных в грамзаписи или сохранившихся в памяти слышавших игру композитора,
мы и рассматривали его творчество. Не будем на них специально останавливаться,
тем более что некоторые из них были приведены во второй части «Истории
фортепианного искусства». Ограничимся лишь общими соображениями об исполнительском
искусстве Рахманинова-пианиста и о его исторической роли.
Рахманинов обладал совершенно исключительными музыкальными и пианистическими
способностями. Остротой слуха и быстротой запоминания он мог соперничать
с Гофманом и немногими другими столь же счастливо одаренными природой
пианистами. По свидетельству Гольденвейзера, Рахманинову достаточно было
услышать произведение, чтобы потом точно воспроизвести его по памяти вплоть
до сложных фортепианных фигурации, которые словно фотоснимки запечатлевались
в его мозгу. К этому следует добавить великолепные руки, очень большие
и эластичные, не знающие никаких виртуозных преград. И конечно, самое
главное — яркое дарование художника-творца, отражавшее внутренний мир
духовно богатой и самобытной художественной личности.
Истинные масштабы Рахманинова-пианиста обнаруживались постепенно на протяжении
длительного времени. Рахманинов не был, подобно Гофману и многим другим
известным виртуозам, вундеркиндом. Вначале в молодом музыканте видели
прежде всего композитора и превосходного исполнителя собственных сочинений.
Только на протяжении четвертого десятилетия своей жизни Рахманинов привлек
к себе широкое внимание, но пока еще преимущественно в России, выдающимися
достижениями в области фортепианно-исполнительского искусства. Мировое
признание принесли ему 1920 и 1930-е годы, когда исполнительство стало
основной сферой его деятельности.
Именно в это время Рахманинов стал играть наряду с собственными произведениями
много сочинений других авторов, что яснее выявило его пианистический облик
в целом. Исполнял он преимущественно западноевропейских романтиков, Бетховена
и русских авторов. Включая в свои программы сочинения традиционного репертуара,
он играл их совсем иначе, чем другие пианисты. Его трактовкам свойствен
рельефно выраженный индивидуальный характер.
В записях игры Рахманинова сразу же улавливается и властно захватывает
яркая эмоциональность — не только темпераментность ораторского высказывания,
но прежде всего внутреннее половодье лирического чувства, богато и очень
непосредственно выраженного. Творческое credo Рахманинова-композитора:
«Музыка. должна идти от сердца и быть обращена к сердцу» (103, 145) всецело
относится и к его исполнению. Вместе с тем эта мощная стихия чувства находится
под контролем сильной воли, осуществляющей целенаправленное воссоздание
формы сочинения, с явно выраженными узлами тяготения (напомним о широко
известном факте острого неудовлетворения Рахманинова собой, когда у него
во время исполнения «точка сползала»). Волевое начало проявляется и в
заострении динамических средств выразительности (рельефные акценты, короткие
стремительные «вилочки», мощные звуковые нарастания), особенно же в сфере
ритмики.
Современный музыкант не в состоянии составить себе вполне конкретного
представления о ритме Листа, братьев Рубинштейнов и других корифеев пианизма
XIX века (поскольку в те времена не существовало звукозаписывающей аппаратуры).
Если же иметь в виду наш век, ознаменовавшийся наступлением в музыкально-исполнительском
искусстве «письменной» эры, то можно с уверенностью сказать, что ни один
из современных Рахманинову пианистов не мог соперничать с ним по богатству
ритмических средств выразительности. Рахманинов удивительным образом воплощал
в своей игре две крайние, все резче обособлявшиеся тенденции: стремление
к достижению возможно большей свободы и гибкости ритма, с одной стороны,
и тяготению к ритму строгому, четко организованному, с другой. Рахманинов
мог «удобно» себя чувствовать в каждом из этих ритмов, мог всячески их
варьировать, взаимосочетать. Следует, однако, иметь в виду, что в отличие
от представителей новых стилевых течений — Прокофьева, Бартока и других
композиторов-пианистов— Рахманинов использовал равномерную ритмику лишь
как одно и отнюдь не доминирующее средство ритмической выразительности.
Нередко придерживаясь в начале сочинения единообразного равномерно-пульсирующего
движения, он в дальнейшем стремился преодолеть возникающую инерцию, чтобы
вырваться на простор свободного ритмического высказывания. Принцип соразмерности
в чередовании агогических ускорений и замедлений, уже давно осознанный
и использованный исполнителями, Рахманинов трактовал на новом, динамически
более высоком уровне. В значительно большей мере, чем для других пианистов,
этот принцип стал для него выражением энергетических свойств ритма — взаимодействия,
а нередко и борьбы сил стремления и торможения.
Историческое значение деятельности Рахманинова-пианиста в том, что он
обобщил высокие традиции мирового романтического исполнительства и дал
мощные импульсы для развития пианистического искусства последующего времени.
Эти импульсы наиболее отчетливо выявились в динамизации исполнительских
средств выразительности, особенно ритма. Динамизация выразительных средств
пианизма Рахманинова связана с общей направленностью его искусства, сформировавшегося
в накаленной атмосфере предреволюционной России. Рахманинов выявил себя
как несравненный интерпретатор образов драматических, трагедийных. Его
исполнительское искусство ярко воплотило и стремления человека к свету,
начало жизнеутверждающее, несокрушимую мощь человеческого духа в борьбе
с обрушивающимися ударами судьбы. Концерты Рахманинова насыщали души людей
энергией, окрыляли их.
Благотворное воздействие его игры ощущали на себе не только рядовые слушатели,
но и музыканты-профессионалы, в том числе крупнейшие пианисты. Артур Рубинштейн
в связи с кончиной Рахманинова отмечал: «Мы потеряли действительно великого
мастера, который постоянно служил всем нам источником вдохновения». А.
Шнабель вспоминает о том чувстве восхищения, которое он испытал, когда
впервые услыхал Рахманинова: «Его царственный стиль, сочетание величия
и мягкости, достоинства и изящества, точности и смелости, сто непринужденность
и отдача всего себя целиком — все это было совершенно неподражаемо» (5,
311).
Александр Николаевич Скрябин (1872—1915) — один из великих на Олимпе «богов
фортепиано». Тончайший знаток инструмента, он еще в большей мере, чем
Рахманинов, сконцентрировал свои творческие искания в сфере фортепианной
музыки.
Подобно Рахманинову, Скрябин уже в ранние годы своей деятельности начал
создавать образы мужественных, сильных духом людей, воспевая красоту человеческой
личности, дерзновенные порывы к свободе, раскрепощению от сковывающих
их пут. Эти образы— важное звено в эволюции темы утверждения человеческой
личности, которую передовые деятели русского искусства так увлеченно разрабатывали
на протяжении длительного времени. Скрябину в большей мере, чем кому-либо
из современных ему русских композиторов, было свойственно стремление к
героизации образов сильной личности. Он приподнимает их над всем будничным,
повседневным, наделяет особой светоносной силой.
Образы героической личности, встречающиеся во многих произведениях Скрябина,
находят свое кульминационное выражение в симфонической поэме «Прометей»
(1910). В ней композитор с особой полнотой воплотил гуманистическое понимание
героизма как подвига, свершаемого на благо людям, призванного активизировать
их созидательную деятельность"5. Герой Скрябина вместе с тем — дитя
своего времени, порождение утонченной европейской культуры. При всей дерзновенной
смелости своих стремлений он подвержен рефлексии, состояниям тягостного
душевного томления, скепсиса. Представитель высокого интеллектуализма,
этот новый Прометей оказывается порой во власти чар темных мистических
сил, сковывающих его энергию.
В начале 1900-х годов, работая над либретто оперы (замысел ее не был осуществлен),
Скрябин хотел главным действующим лицом в ней сделать «философа — поэта
— музыканта». Образ, рисовавшийся воображению композитора, несомненно
наделен автобиографическими чертами. Но сам Скрябин менее всего может
быть назван философом. Те субъективно-идеалистические воззрения, которые
постепенно стали основой его мировосприятия, не выдерживают серьезной
научной критики. Крайне утопичными были и мечты Скрябина о социальном
преобразовании мира средствами искусства (идея вселенской Мистерии). При
всем том яркость самой музыки композитора, отразившая свободолюбивые настроения
миллионов людей, оказывала на современников сильнейшее воздействие. Имя
Скрябина они нередко связывали с революцией. В Этюде dis-moll ор. 8 передовая
молодежь начала века видела образ, родственный горьковскому «Буревестнику».
А. Н. Дроздов, пианист и историк русской фортепианной культуры, вспоминая
о том, какое впечатление произвело на него и era сверстников это сочинение
(он впервые услышал его в 1902 году, в Саратове), писал: «Новая, неведомая
музыкальная стихия властно охватила наше сознание. Словно мятежный вихрь
сорвался со струн рояля и увлек нас в свой стремительный полет. Слышались
вопли и шум борьбы. Чувствовался порыв плененного героя, рвущего оковы,
гибнущего в последней схватке, но не сдающегося: вот что сказал нам dis-moll'ный
этюд Скрябина» (38, 71). Хочется напомнить и слова А. В. Луначарского,
видевшего в творчестве автора «Поэмы экстаза» «высший дар музыкального
романтизма революции» (69, 145). Скрябин, писал Луначарский, «через изображение
страсти шел к изображению революции», «музыкально пророчествовал о ней»
(69, 142).
Искусство Скрябина претерпело быструю и очень значительную стилевую эволюцию.
В своем раннем периоде (до конца XIX века) оно протекало в основном под
знаком развития традиций музыкального романтизма. Зрелый период— 1900-е
годы — ознаменован исканиями композитора в области новых стилевых направлений
преимущественно символизма. Окончательная кристаллизация символистского
художественного мышления происходит у Скрябина в поздний период творчества.
В сочинениях этого времени обнаруживаются иногда и черты импрессионизма.
Порой в этот период Скрябин приближается и к экспрессионизму. Все же экспрессионистом
он не стал. Даже в тягостные годы надвигающихся катаклизмов первой мировой
войны его не покидала вера в светлое будущее человечества, путь к которому,
мечталось ему, лежал через вселенскую Мистерию.
Поздние произведения Скрябина — наиболее характерное и полное выражение
в музыкальном искусстве идей символизма. Подобно представителям этого
стилевого направления в литературе— Валерию Брюсову, Александру
Блоку, Андрею Белому, Вячеславу Иванову, Скрябин стремился воплотить
духовную сущность жизненных явлений, скрытую под их материальной, телесной
оболочкой. Вселенная стала представляться ему созданием собственного творчества,
«игрой лучей моей мечты», и в этой игре он видел «высшую реальнейшую реальность»
(43, 139, 137).
По мере того как символистское мировосприятие овладевало художественным
сознанием композитора, содержание его пронзведений заметно менялось. Символистскую
окраску носит уже Четвертая соната. Не только идея сочинения — страстное
стремление к идеалу, воплощенному в образе прекрасной звезды, но и лексика
литературного текста, с такими характерными выражениями, как «тайна голубая»,
типичны для поэтов-символистов. Символистский характер имеет и образ полета
к влекущей далекой цели. Образ этот имеет многозначный смысл. Вполне вероятно,
что для автора, как пишет А. Альшванг, это было поэтическое воплощение
процесса творчества (8). Памятуя о том, что ко времени создания сонаты
Скрябин уже утвердился в представлении, будто реальный мир есть не что
иное, как порождение творческой воли художника, можно себе представить,
какой грандиозный, поистине космический характер приобретают при такой
эстетико-психологической установке образы произведения.
Особенно необычной была образность поздних сочинений Скрябина. В них ощущаешь
порой присутствие каких-то неведомых грозных сил, угрожающих человеку,
сковывающих в нем стремление к свету, идеалу, завораживающих и подчиняющих
его своей злой воле. По мере эволюции стиля композитора иным становится
и место действия музыкального повествования. Начинает казаться, что оно
необъятно расширяет свои границы и происходит уже не на нашей планете,
или не только на ней, но во всей вселенной, что рисуемые автором музыкальные
пейзажи воспроизводят картины неведомых звездных миров, волшебно-прекрасных,
но и жутких, окутанных неразгаданными тайнами своего извечного бытия.
В связи со стилевой эволюцией произведений Скрябина менялся характер их
тематизма. Они все больше насыщались темами-символами, сложное взаимодействие
которых и являлось основой музыкально-драматургического действия. В сущности,
это была дальнейшая разработка принципа лейтмотивного музыкального развития,
получившего широкое распространение в музыке XIX века, но разработка специфическая,
направленная на выявление той образности, которая влекла к себе композитора.
Разгадке смысла тем-символов служат словесные пояснения, которыми автор
обильно снабжал свои сочинения зрелого и позднего периодов творчества
(в ранний период он ограничивался традиционными обозначениями общего характера
музыки в начале произведения). Примером подобных пояснений могут служить
колоритные ремарки автора в нотном тексте Шестой сонаты: «таинственно,
концентрированно» (первые аккорды главной партии), «странно, окрыленно»
(их фигурационное дробление в 3-м такте), «с сдерживаемым пылом» (вторая
тема главной партии, символ стремлений человеческой души), «таинственное
дуновение», «ласкающая волна» (3—4 такты этой же темы), «мечта воплощается
(прозрачность, нежность, чистота)» (побочная партия), «чары» (ремарка,
трижды повторяемая на протяжении побочной партии), «с увлечением» (переход
к заключительной партии), «окрыленно, кружась в вихре» (заключительная
партия), «рождается ужас» (появление зловещей темы рока) и т. д.
Своей утонченностью и поэтичностью эти ремарки напоминают словесные обозначения
характера музыки Дебюсси (кстати говоря, Скрябин писал свои пояснения
тоже на французском языке). Но направленность скрябинских ремарок в целом
совсем иная. Они значительно в меньшей степени связаны с передачей пространственных
впечатлений (хотя и такие ремарки имеют место) и призваны в основном раскрыть
символико-психологический подтекст музыки.
Так, примерно в одни и те же годы два великих композитора разработали
два типа интерпретационных указаний, открывающих широкое поле деятельности
для творческого осмысления их исполнителями: пространственный, рожденный
эстетикой импрессионизма, и психологический, воплотивший мировосприятие
художника-символиста. Конечно, различия двух этих типов ремарок относительны,
по специфика каждого из них очевидна.
Новизна поздних сочинений Скрябина во многом связана с особенностями их
гармонического языка, в основе которого лежит так назваемая прометеевская
система организации звуков. Постепенно сформировавшись на протяжении 1900-х
годов и получив свое наиболее законченное выражение в «Прометее», она
затем была использована Скрябиным в поздних фортепианных сонатах и пьесах.
Прометеевская система — одна из интересных попыток обновления музыкального
языка, возникшая в период кризиса романтической гармонии. Система эта
закономерно выросла из творческой практики самого Скрябина и других композиторов
того времени, постепенно осваивавших в качестве аккордов все более высокие
обертоны натурального звукоряда. На рубеже столетий уже довольно частым
явлением было использование звуков, соответствующих 9-му обертону, что
привело к широкому использованию нон-аккордов. Скрябин вводит в аккорды
11 и 13-й звуки натурального звукоряда, которые совместно с четырьмя его
другими тонами образуют шестизвучный прометеевский аккорд (см. пример
26а):

Использование прометеевского аккорда в качестве основного
строительного материала создает сферу непрерывно сменяющих друг друга
диссонирующих созвучий. В этом потоке звучания есть, однако, фазы большего
и меньшего сгущения напряжения, что вызывает ощущение своего рода диссонирующих
и консонирующих фаз развития. Следует иметь в виду, что прометеевский
аккорд содержит целых два тритона. Концентрируя на них внимание слушателя,
композитор создает эффект особого обострения и омрачения звучания (например,
в теме рока из Шестой сонаты). Представленный в виде цепи секунд тот же
аккорд раскрывается как почти полный целотонный звукоряд (см. пример 26
6), вызывая ощущение статики и просветления звучания. Между двумя этими
полюсами возникает множество разнообразных комбинаций звуков прометеевского
аккорда, воплощающих те или иные изменения характера музыки. Анализ всей
этой системы гармонических отношений представляет для исполнителя значительную
трудность в виду их нетрадиционности. Но он может оказаться весьма полезным
для более глубокого проникновения в увлекательный мир скрябинского искусства
и подсказать вдумчивому интерпретатору интересные решения. Как всегда,
следует стремиться к тому, чтобы интуиция и осознание художественных процессов
составляли в творческой работе целостное единство. Сказанное надо распространить,
конечно, и на все остальные явления музыкального языка XX века, с которыми
современному исполнителю приходится сталкиваться.
Развитие прометеевской гармонической системы находилось в связи с общей
эволюцией художественного мировоззрения Скрябина, с утвержданием в нем
символистских принципов творческого мышления. Новая гармоническая сфера
по контрасту с привычным строем музыкальной речи вызывает у слушателя
представление о той необычной образности — то ли глубин внутреннего мира
человека, его непознанной стихии, то ли необъятных пространств космоса,
— о которой говорилось выше и которая так влекла к себе В. Брюсова, М.
Чюрлениса и многих других символистов.
Уже в юности композитор проявил большой интерес к жанру фортепианной сонаты.
Подобно тому как концерт для Рахманинова, так сонаты для Скрябина стали
магистральной линией творчества, наиболее полно характеризующей его стилевую
эволюцию.
В некоторых ранних сонатах Скрябина сказалась тенденция к монументальности,
многочастности. Таковы четырехчастные Первая и Третья сонаты. В Первой
явно ощутима преемственность с сонатами Шопена (вплоть до введения похоронного
марша — здесь он используется в качестве финала цикла). Третья соната
fis-moll (1898)—уже вполне самобытное произведение, одно из ярких воплощений
Скрябиным героической темы. Согласно пояснению в программах к исполнению
сонаты автором, содержание ее раскрывалось как передача различных состояний
души. Характер музыки финала — Presto con fuoco — определялся следующим
образом: ' В буре раскрепощенных стихий бьется душа в упоении борьбы.
Из глубин бытия поднимается грозный голос человека-творца, победное пение
которого звучит торжествующе! Но слишком слабый еще. чтобы достичь вершины,
он падает, временно пораженный, в бездну небытия».
Основным руслом, по которому шло развитие сонатного жанра Скрябиным, была,
однако, не многочастная соната, а одночастная соната-поэма Поэмное начало
по мере своего проникновения в музыку композитора все больше определялось
как поэмность психологического плана. В этом смысле характерна Соната-фантазия
(1892—1897). Известно, что она создавалась под впечатлением образов морской
стихии, что в первой части автору рисовалась тихая, южная ночь на берегу
моря», во второй — «широкий бурно волнующийся морской простор» (137, 39).
Все это, действительно, можно услышать в музыке. В ней есть, однако, и
нечто другое, о чем Скрябин не сказал, и что особенно важно передать исполнителю.
Это некий подтекст, то, что театроведы называют «подводным действием»
в пьесах Чехова, Ибсена и других психологических драмах. Начальные мотивы-зовы
главной партии Andante пробуждают у слушателя ощущение чего-то значительного,
возвышенно-прекрасного и таинственного, что станет предметом музыкального
повествования. И в дальнейшем, в процессе постоянного развертывания драматургии
сочинения это чувство должно все больше захватывать аудиторию, чтобы оставить
сердца людей наполненными глубинными эмоциями и благородными душевными
стремлениями, которые символизируются начальными лирическими темами, а
впоследствии вырастают в героическую, горделиво рвущуюся в высь тему финала.
Символистские тенденции, наметившиеся в Сонате-фантазии еще в рамках романтической
образности, получили дальнейшее развитие в Четвертой сонате. Именно в
ней, в связи с возникшей у композитора творческой задачей, впервые отчетливо
кристаллизуется новый тип сонатной драматургии. В основу ее положено последовательное
и целеустремленное развитие эмоциональных состояний (или, что для Скрябина
в известной мере является синонимом, — творческой деятельности человека)
от относительной статики ко все большей активизации жизненных и творческих
сил, приобретающей характер полетности вплоть до экстатической кульминации
в конце — утверждения завоеванной цели. В связи с тем, что полетность
является здесь характернейшим признаком развития, а его итогом служит
образ экстаза, этот тип музыкальной драматургии можно было бы назвать
полетиоэкстатическим.
В Четвертой сонате закономерности новой драматургической концепции выступают
с большей наглядностью, чем в каком-либо другом сочинении Скрябина. Первая
часть, вступительная, — развитие темы томления души, ее скрытых, постепенно
активизирующихся стремлений. Последующее сонатное allegro представляет
собой по существу воплощение идеи полета. Этой задаче подчинена трактовка
принципов сонатного развития, существенно отличная от традиционной. Главной
партии, концентрирующей в себе образ полетности, противопоставляется не
лирическая побочная, переключающая музыкальное повествование в иную эмоциональную
сферу, а как бы тема раздумий в пути, несколько притормаживающая полетное
движение, но не останавливающая его, — оно остается внутренне ощутимым.
Дальнейшая активизация полетности происходит в разработке, где в стремительно
несущемся движении возникает тема вступления уже в преображенном, героизированном
виде. И наконец, после новой фазы торможения в репризе, аналогичной экспозиционной,
наступает ликующая кода. На фоне непрекращающегося полетного движения
следует третье, завершающее проведение темы вступления, звучащей еще более
мощно и торжествующе: «.Пью тебя — о море света! Я, свет, тебя поглощаю»
(из пояснения к исполнению сонаты автором).
В последующих сонатах полетно-экстатический тип драматургии претерпевает
различные модификации. Он дополняется новыми образами и усложняется в
структурном отношении. В Пятой сонате (1907) путь к кульминационной экстатической
теме в коде становится более сложным, как бы последовательным восхождением
по спирали. Интересное новшество в этом сочинении — обрамление сонатного
allegro небольшими, но весьма примечательными разделами. Предваряющие
образы прометеевской огневой стихии, они создают особую психологическую
установку для восприятия сочинения, как бы вводят фон космоса, незримо
присутствующего во время развертывания драматургического действия (это
впечатление усиливается благодаря введению материала окаймления кое-где
в самом сонатном allegro).
Еще в большей мере драматургия обновляется в Шестой сонате (1911 —1912).
Как в Четвертой и в Пятой, развитие музыкальной драматургии в Шестой сонате
протекает от фазы наибольшей статики к фазе высшего динамического напряжения.
Но характер музыки этих крайних фаз существенно иной. Начальный раздел
главной партии с его сумрачно-застылыми аккордами призван создать впечатление
особой статичности, даже безжизненности. Интонации стремлений человеческой
души возникают лишь во второй теме главной партии. Они получают дальнейшее
развитие в лирической побочной партии и в полетной заключительной. Полетность
эта, однако, иного рода, чем в сонатах зрелого периода. Она как бы скованная,
напоминающая скорее вихревое кружение в сравнительно ограниченном пространстве,
чем свободное устремление в беспредельные дали. И конечная кульминация
в Шестой сонате иная — это не светлая экстатическая тема, а зловещая тема
рока и «черный экстаз» танца сил зла.
Шестой сонате по характеру музыки и структуре близка Девятая (1913), одна
из лучших в творческом наследии Скрябина, выделяющаяся рельефностью тематизма,
динамичностью его разработки и лаконизмом формы. Тема рока возникает здесь
уже в главной партии и затем получает интенсивное сквозное развитие, вступая
в конфликт со светлой темой стремлений человека (побочная партия, вырастающая
из интонаций главной партии). Как бы порабощенная темными силами, тема
побочной партии в репризе меняет свой лирический облик и предстает в виде
гротескного марша-шествия, вводящего в экстатически-полетную коду (вновь
образ «черного экстаза»!).
В Десятой сонате (1912—1913) образы темных сил исчезают. Образный строй
ее значительно более реальный, «земной». За ним ощущаешь уже не столько
символистское, сколько пантеистическое восприятие мира. Важная роль в
создании этого впечатления принадлежит начальной теме (первая тема трехчастного
введения). Окаймляя сочинение и пронизывая собой ткань многих его разделов,
она выполняет также функцию структурно-объединяющего элемента формы. Примечательной
особенностью Десятой сонаты является и необычная для поздних сонат трактовка
побочной партии. Тема ее воплощает не образ хрупкой мечты, а волевое,
героическое начало. На этой теме строится главная кульминация произведения,
и кульминация эта, как в большинстве сочинений зрелого периода, светлая
(авторские ремарки, характеризующие ее, —могущественно, лучезарно»). Таким
образом, полетно-экстатический тип сонатной драматургии предстает здесь
опять в новом варианте, в известной мере напоминающем начальный, но вобравшем
в себя некоторые элементы драматургии предшествующих сонат позднего периода.
Сонаты Скрябина, подобно концертам в творчестве Рахманинова, окружены
многими «спутниками» в виде различных фортепианных пьес — прелюдий, этюдов,
поэм. Содержание их близко тем или иным образам сонат, в некоторых же
случаях эти пьесы могут быть интерпретированы как предварительные эскизы
к образам сонат, а порой — как их новые варианты.
Скрябин трактовал жанр прелюдии иначе, чем Рахманинов. Следуя традициям
Шопена, а на русской почве — Лядова, он стремился к максимальной лаконичности
высказывания, к возможно большей концентрации мысли. Прелюдии Скрябина
— совсем небольшие пьесы, своего рода музыкальные характеристики каких-либо
душевных состояний, чаще одного, иногда оттененного другой эмоциональной
краской. По богатству содержания и проявленному в них искусству «сказать
многое в немногом» они принадлежат к лучшим образцам жанра.
В своих прелюдиях композитор запечатлел особенно утонченные и мимолетные
душевные переживания. Исключительной обостренностью моментов восприятия
быстро изменчивой жизни Скрябин близок Дебюсси. Но в прелюдиях Скрябина
это художественное отражение момента дано в развитии внутреннего мира
людей, а не в окружающей их действительности и ее восприятии человеком.
Скрябин группировал прелюдии в серии. Самая большая из них — ор. И (1888—1896)
— содержит двадцать четыре пьесы во всех мажорных и минорных тональностях.
Из двух направлений развития жанра концертного этюда, наметившихся в XIX
веке — шопеновского и листовского, Скрябину в начале творческой деятельности
больше импонировало первое. Это заметно в серии его этюдов ор. 8 (1894).
В ней представлен тот же, что и у Шопена, тип небольшой по размерам пьесы,
в которой решаются определенные пианистические проблемы, в первую очередь
освоения типичных формул фортепианного письма — различных фигурации, двойных
нот, октав, аккордов (в индивидуально скрябинском их преломлении).
В последующих сериях этюдов — ор. 42 и ор. 65 — намечается тенденция к
укрупнению масштабности творческих замыслов композитора. Среди сочинений
ор. 42 (1903) в этом смысле особенно примечателен Пятый этюд cis-moll
— целая поэма патетико-драматического характера в сонатной форме, один
из замечательных образцов прометеевской линии скрябинского творчества.
Что касается трех этюдов ор. 65 (1911 —1912), то все они могут рассматриваться
как отдельные части одного сочинения. Их объединяет прежде всего интересный,
смелый для своего времени замысел —использование необычных последований
двойных нот: в первом этюде — больших нон, во втором — больших септим,
в третьем — чистых квинт. Все три пьесы связаны между собой и в структурном
отношении. Фактически они составляют сонатный цикл, состоящий из свободно
трактованного сонатного allegro, медленной части и финала. Между частями
прослеживается тематическая связь в виде сквозного развития интонации
из трех нисходящих звуков (она намечается уже в 3-м такте мелодико-фигурационного
движения первого этюда). Таким образом, распространенное мнение о том,
что после Пятой, одночастной сонаты Скрябин циклических сонат не писал,
нуждается в уточнении: произведения такие в действительности имелись,
правда, сонатами автор их не называл.
Первыми фортепианными сочинениями, названными Скрябиным поэмами, были
две пьесы ор. 32, Fis-dur и D-dur (1903). Среди последующих сочинений
этого жанра есть развернутые композиции, такие, как «Трагическая поэма»,
«Сатаническая поэма»; есть и совсем небольшие пьесы — «Окрыленная поэма»,
«Маска», «Странность». В образном содержании поэм отражается эволюция
скрябинского творчества, постепенное перерастание в нем романтизма в символизм
(в известной мере об этом свидетельствуют и приведенные названия). В характере
поэмы композитор создал и свое наиболее импрессионистское сочинение —
«Поэму-ноктюрн» ор. 61.
В поздний период творчества влечение Скрябина к поэмности обнаруживается
с такой силой и трактовка им этого жанра становится настолько расширительной,
что провести какую-либо резкую грань между его поэмами, прелюдиями и другими
пьесами вряд ли возможно. По крайней мере последнее сочинение композитора
— «Пять прелюдий» ор. 74, думается, в такой же мере могло бы быть названо
пятью поэмами, как две миниатюрные поэмы ор. 44 прелюдиями. С не меньшим
правом, чем «Окрыленную поэму», следует считать поэмами и «Два танца»
ор. 73 («Гирлянды», «Темное пламя»).
Скрябин создал свой самобытный фортепианный стиль. Характерная его особенность
— своеобразный динамизм, в основе которого лежит принцип развития краткими
и активными волевыми импульсами. Следуя один за другим свободно, как бы
импровизационно, они вместе с тем органично складываются в стройные построения,
образующие волны нарастания и спада энергетического напряжения. Генетически
этот тип развития связан с искусством западноевропейских романтиков и
в еще большей мере с лирикой Чайковского. Ее интонационная специфика,
особая трепетность чувств и вместе с тем широта дыхания были чутко уловлены
Скрябиным и творчески преломлены в сочинениях раннего периода. В дальнейшем
на этой основе сформировалась индивидуальная манера интонирования, в которой
импульсивность творческого высказывания приобретала все более заостренную
форму. Наглядной иллюстрацией эволюции интонационного мышления Скрябина
может служить сравнение нотного текста Первой поэмы ор. 32 с записью ее
исполнения автором спустя семь лет после создания (интерпретация Скрябина
воспроизведена на верхних нотоносцах) (111, 8):

Во многих сочинениях Скрябина импульсивность с течением
времени приобретала характер полетности — качества, составляющего основной
нерв музыки композитора. Под этой полетностью в широком смысле слова надо
понимать устремленность творческой мысли к высоким жизненным идеалам.
Полетность в узком или собственном смысле слова — это особого типа музыкальная
образность и свойственные ей выразительные средства, вызывающие в восприятии
слушателя соответствующее ассоциативное представление.
Для создания таких образцов в эстетических взглядах, художественных вкусах,
в самой личности Скрябина были необходимые предпосылки. Он любил приволье
широких просторов земли и моря. Ему импонировала мощь человеческого разума,
властно покоряющего стихии природы и беспредельные пространства вселенной.
Полетом своей мечты он уносился в созданный им идеальный мир, в царство
справедливости и общественной гармонии.
Черты полетной импульсивности присутствуют в ранних сочинениях композитора,
придавая некоторым из них необычный облик. Такова, например, Шестая мазурка
cis-moll ор. 3:

В Двенадцатом этюде ор. 8 фигурационное движение образует нетрадиционную для таких сопровождений раскидистую фактуру. Обращает на себя внимание *и специфика строения мелодики: вначале после ее энергичных бросков на большие интервалы происходит накопление энергетического потенциала (длительное задерживание на опорном звуке eis) и стремительный взлет с последовательным ускорением движения (триоль восьмых — шестнадцатые— тридцать вторая). Ощущение полетности усиливает выразительная деталь — пауза, во время которой рука молниеносно перелетает с одной черной клавиши на другую:

Впервые словесное обозначение полетности было применено во второй части Четвертой сонаты: Prestissimo volando. Тема ее главной партии является типичным образом полета, характерным для произведений среднего периода творчества Скрябина. Вся она соткана из молниеносно следующих друг за другом интонаций-импульсов. Помимо особого, прерывистого ритма в них примечательна противоположная направленность движения — восходящего в мелодии, нисходящего в басу. Этот композиционный прием, создающий благодаря взаимоотталкиванию контрастных элементов ткани иллюзию взлета, Скрябин использовал во многих произведениях. Немалое выразительное значение в таких интонациях имеют лиги. Они несколько утяжеляют начальные звуки мотивов и облегчают последние, что усиливает нужные ассоциации:

В начальной фразе после активизации импульсов стремления
наступает торможение движения и накопление интонационной энергии для последующей
ее вспышки во второй фразе. Уже на примере этой первой фразы можно познакомиться
с тем, как в сочинениях Скрябина происходит объединение отдельных интонационных
импульсов в построения все большего масштаба, где целая фраза представляет
собой словно один укрупненный импульс стремления с последующим его торможением.
Дальнейший анализ сонаты мог бы показать, как из отдельных фраз образуются
волны нарастания и спада динамического напряжения, охватывающие целые
разделы формы сочинения и создающие широкие линии драматургического развития
(исполнителям Четвертой сонаты и других произведений Скрябина делать такие
анализы было бы весьма полезно).
В поздних опусах полетное начало нередко воплощается в образах стихии
огня, искусно воспроизводимой различными композиционными приемами. Это
могут быть искрометные пассажи и импульсивные трели, вызывающие ассоциации
с языками разгорающегося пламени (см. примеры 31 а, б из Седьмой и Девятой
сонат):

Сфера «огневого пианизма» — интересное обогащение Скрябиным фортепианной фактуры. Помимо особо
импульсивной трактовки всевозможных гармонических фигурации и тремолирующих
звуч-ностей она привлекает внимание своей необычной красочностью. Подобно
тому как в партитуре «Прометея» сокрыто немало поразительных эффектов
воспроизведения образов огня, так и в фортепианных сочинениях позднего
периода ткань порой кажется светящейся, пламенеющей, мерцающей переливами
самых различных огней — «ласковых», «радостных», «грустных», «зловещих».
Даже в насыщенных аккордовых последованиях Скрябин избегал тяжеловесности
звучания. Изложение его отличается в целом прозрачностью, обилием «воздуха»,
богатством обертоновых красок. Среди специфических виртуозных трудностей
следует отметить всякого рода импульсивно-полетные перемещения рук на
клавиатуре. Исключительного, еще небывалого развития достигла в некоторых
сочинениях партия левой руки. Особый интерес в этом отношении представляют
две пьесы для левой руки ор. 9 — Прелюдия и Ноктюрн, написанные Скрябиным
в период заболевания правой руки. Высокую оценку проявленной в них творческой
изобретательности дал немецкий исследователь: «До той поры находились
в мнимом затруднении, полагая, что в основном есть лишь две возможности
изложения для одной руки: либо мелодия и сопровождение должны двигаться
сообща в пределах позиции руки, следовательно, максимум — децимы, либо
надо перейти к частому арпеджированию. Первый путь связан естественно
с сильным самоограничением, второй является неприятным и временным средством.
И вот колумбово яйцо в Прелюдии и Ноктюрне Скрябина ор. 9.: бас и гармоническое
заполнение либо вообще не звучат вместе с мелодией (пример 32 а), либо
сочетаются с ней временно в искусно найденном тесном расположении (пример
32 б)» (152, 593):

В истории исполнительской скрябинианы заметный след оставила
концертная деятельность автора. Его игра, так же как и сама музыка, вызывала
горячие споры, разноречивые оценки прессы. Но и почитатели его искусства,
и те, кому оно было чуждо, сходились в мнении, что Скрябин — несравненный
интерпретатор своих сочинений и что многое в них, подчас самое существенное,
от других исполнителей ускользает.
В юности, во время обучения в классе Сафонова, Скрябин много и увлеченно
играл на фортепиано (и даже, работая над «Дон-Жуаном» Моцарта — Листа
и «Исламеем» Балакирева, переиграл себе правую руку). В дальнейшем, хотя
он уже так интенсивно на рояле не занимался, его исполнительское мастерство
продолжало развиваться, эволюционируя в связи с теми стилевыми изменениями,
которые происходили в его искусстве.
Скрябин-пианист — одухотвореннейший художник, поэт фортепиано. Во время
исполнения он как бы заново создавал произведение, приобщая слушателей
к процессу своего гениального творчества. Случалось это чаще в интимном
кругу музыкантов, друзей. В больших концертных залах он иногда терялся,
играл нервозно, аффектированно.
Исполнение Скрябина выделялось исключительной тонкостью фразировки, богатством
оттенков звука. Не обладая значительной физической силой и питая отвращение
к громоносной, стучащей манере игры Скрябин очаровывал мягкостью своего
туше, какими-то особенными, лишь ему свойственными «ласкающими» прикосновениями
к клавишам, рождавшими звучания нежные, изысканные, порой словно совсем
нематериальные. Они оказывались особенно уместными в сочинениях позднего,
символистского периода творчества, и именно в те годы «дематериализация»
звучности становилась все более характерной для его исполнения.
Скрябин играл ритмически очень свободно, импульсивно. Его агогика при
всей своей импровизационности была, однако, подчинена определенной закономерности
чередования ускорений и замедлений движения (НО). Ритм Скрябина таил в
себе значительную энергию. Гольденвейзер говорил, что из множества интерпретаций
Этюда dis-moll, которые ему пришлось слышать на своем веку, наиболее действенной
была авторская — никто не мог так наэлектризовать аудиторию этим сочинением,
как сам автор в минуты творческого подъема.
В связи с задачами исполнения своих произведений у Скрябина выработалась
особая «техника нервов», которая обеспечивала ему возможность ярко воспроизводить
образы полетности, огневой стихии, экстаза. Эта виртуозность органично
дополняла облик Скрябина-исполнителя, пианиста нового, символ и стско-экстатического
типа.
Сохранившиеся записи игры Скрябина на аппарате Вельте-Миньон весьма несовершенны.
Они огрубляют качество звучания, дают искаженное представление о педализации
пианиста, восхищавшей современников своею тонкостью. Все же в записи Этюда
dis-moll некоторые особенности авторской интерпретации выступают достаточно
отчетливо. Обращает на себя внимание постепенная дпнамизация исполнения.
Начиная играть в сдержанном темпе, Скрябин в дальнейшем ускоряет движение,
создавая к концу впечатление предельного темпа и наивысшего эмоционального
подъема. Примечательна специфическая трактовка восходящих построений мелодии.
С первой же фразы они звучат molto accelerando, quasi glissando, что рельефно
оттеняет присущую им полетность.
С течением времени формировались различные тенденции интерпретации музыки
Скрябина. Среди отечественных мастеров пианизма к творчеству композитора
особенно часто обращались С. Е. Фейнберг, Г. Г. Нейгауз и В. В. Софроницкий.
Исполнение скрябинских произведений Фейнбергом — импульсивное, словно
пронизанное нервными токами, — выделялось тончайшей одухотворенностью
в передаче лирических тем и высоким накалом эмоционального напряжения
в образах полетности и экстаза. Скрябин Нейгауза был пылким, страстным
романтиком, не лишенным, однако, внутренней гармонии. В нем отчетливо
выявлялись преемственные связи с Шопеном. Но это не производило впечатления
ретроспекции. Напротив, обращение к традициям великого польского музыканта
помогало подчеркнуть жизненность скрябинских сочинений, отстаивание их
автором непреходящей ценности художественного наследия человеческой культуры,
ее гуманистических идеалов.
Особенно многогранно воплотил мир образов композитора Софроницкий. Пианисту
был в равной мере близок и ранний, и зрелый, и поздний Скрябин. Равно
удачно воспроизводил он все образные сферы скрябинского искусства. При
этом ярко проявлялись характерные черты собственной манеры интерпретации
Софроницкого, такие, как мышление крупным планом, мужественный тонус исполнения,
эмоциональное полнокровие и другие.
В виде примера можно назвать трактовку Второй сонаты. Под пальцами Софроницкого
— это монументальное звуковое полотно, романтическая поэма о сильном духом
человеке, с богатым миром чувств и неугасимыми стремлениями к идеалу.
Образ его раскрывается в единстве с могучими стихиями природы, волнующими
своей красотой и грозным величием. Эмоционально насыщенному воплощению
мыслей автора способствует рельефное, порой как бы приподнятое интонирование
ведущих тем. В финале пате-тико-героическая мелодия словно парит над бурлящей
фигурацией.
Великолепно передано пианистом и пленэрное начало, присущее Сонате-фантазии.
Оно раскрывается уже в экспозиции первой части, в своего рода красочной
перспективе — от глухих, сумрачных звучаний начальных аккордов до серебристых
сверканий фи-гураций-арабесок в верхнем регистре заключительной партии.
Более всего, однако, впечатляет ощущение последовательно раскрывающейся
пространственной шири, приволья больших горизонтов, возникающее благодаря
все большей «объемности» исполнительского дыхания пианиста («море музыки»,
говорил Софроницкий о заключительной партии, желая передать то состояние
восторженного упоения красотой пейзажа-настроения, которое следует воплотить
интерпретатору сонаты)
В последние десятилетия в связи с новыми веяниями времени наметились попытки
иного толкования музыки Скрябина. Владимир Горовиц в своей трактовке Девятой
сонаты необычно раскрывает конфликт между человеком и зловещими силами
рока. Эти последние, вопреки существующей традиции, представлены им как
проявление бездушного начала, автоматизма. Тема судьбы исполняется подчеркнуто
сухо, словно постукивание какого-то аппарата, постепенно вырастающего
в образ страшного вселенского робота, который сокрушает все живое на своем
пути. Сфера человеческих чувств, напротив, воплощена с повышенной экспрессией.
В ней на первый план выдвинуты интонации жалобы, стона. Они привлекают
к себе внимание слушателя в первой же теме, а затем еще в большей мере
в побочной партии. Создается впечатление обездоленной, страдающей души,
беззащитной перед натиском сил зла.
Трактовка Горовица вызывает интерес попыткой переосмысления трагедийного
конфликта, лежащего в основе сонаты, выявления в нем непосредственно ощутимых
связей с реальными конфликтами современной жизни. Импонирует и мастерское
воплощение пианистом своего творческого замысла, выразительные звуковые
и ритмические характеристики тем. Представляется, однако, чрезмерной неустанная
фиксация слушательского внимания на «страдальческих» интонациях, переключающих
драматическое развитие н русло трагедии «маленького человека» экспрессионистского
плана. Это противоречит духу скрябинского творчества, всепроникающей его
прометеевской идеи, поборником которой может быть лишь сильная личность.
Совсем в ином роде исполнение Шестой сонаты Рихтером. Оно сохраняет эмоциональный
колорит позднего искусства Скрябина. Вместе с тем символистская образность
сочинения наполняется новым содержанием. В ней ощущаешь дыхание нашей
эпохи с ее великими деяниями человека, с напряженной борьбой сил гуманизма
и антигуманизма, вызывающей острые трагедийные конфликты. Рельефно выявляя
активизацию интонаций светлых стремлений души человека, Рихтер создает
представление о раскрытии внутреннего мира натуры утонченной, но волевой.
Очень динамично передана и грозная мощь сил, сковывающих эти стремления,
что способствует заострению трагедийной ситуации, нагнетанию эмоциональной
напряженности музыки сонаты. С присущим Рихтеру размахом и колористическим
мастерством выписан фон, на котором развертывается драматургическое действие.
Это поистине необъятные просторы вселенной во всем их суровом и грандиозном
величии. Воображению слушателя рисуются картины космоса, воспринимаемого
с позиций современного человека — как нечто, ставшее «приближенным» к
нам, более ощутимым во всей своей конкретной реальности, но все же полное
загадочности, хранящее от нас многие свои тайны.
Как видим, интерпретации Горовицем и Рихтером сходных по образам и драматургии
сочинений оказываются весьма различными. Причину тому следует искать не
столько в особенностях музыки сонат и индивидуальных качеств мастерства
исполнения, сколько в принципиальном различии подхода пианистов к творчеству
Скрябина, за которым явно проступает различие их эстетических, позиций.
